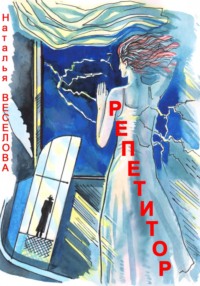Полная версия
На линии любви
Раньше-то с очкариками не церемонились: никаких вам дизайнерских оправ и незаметных линз – стекла с палец толщиной в металлической проволоке. Так всю жизнь и проходила – какие уж там надежды на личное счастье, да еще притом, что драгоценные уцелевшие на войне мужчины оказались в абсолютном меньшинстве, и к каждому стояла очередь из невест на любой вкус. Можно было, конечно, мудро выйти за конченного инвалида, в которых никакого недостатка во второй половине сороковых не ощущалось, – так не одна дурнушка и дурочка свою жизнь благополучно устроила – но Зоя побрезговала. Не очень-то и хотелось… Перед самой войной, правда, было у нее. В смысле – целовались, ничего больше. Насчет больше – на это девушки тогда с оглядкой шли, некоторые до загса вообще ничего не допускали. И она из таких была. Никакой особенной заслуги – просто не горело у нее там, как у многих, которые позволяли себе. А горело бы, так и она б позволила, экое дело. Но она хотела именно замуж – и детей обязательно. Троих, больше не надо. Сначала мальчика, потом девочку, а третьего – все равно кого. Но она от всего этого взяла – и отказалась. Кому сказать, почему… – нет, даже сейчас никому не расскажешь. Решат, что она не к старости с катушек съехала, а всегда такая была… Все дело в том, что жила у Зои кошка. Самая обычная, полосатая, сугубо домашняя. Ничем особым не отличалась, даже мышей ловить не умела. Котенка Зое подарил папа в тот день, когда она впервые пошла в школу. И Мурка выросла у Зои на руках – всю жизнь спала по ночам у хозяйки на подушке, счастливо мурча, стоило только девочке немного пошевелиться. Предана была ей, как собака – даже странно, все кругом удивлялись. Большие они с Зоей стали друзья…Так вот, жениху в Зое все нравилось, даже с очками ее жуткими он смирился как-то – а вот Мурку терпеть не мог. Она его, кстати, тоже. Как он в комнату – так животина под кровать, ничем не выманишь – хотя он руки не понимал на нее, не было такого. Студент Политеха, приличный парень, родители – инженеры. А вот вбили ему в голову с детства, что кошки – разносчики микробов, а ночью могут перегрызть горло грудному ребенку. Были, мол, такие случаи. Как она ни доказывала в слезах, что это глупые предрассудки – уперся и все тут. «Мама сказала, а она знает». После свадьбы Зоя должна была переехать к мужу домой без кошки, с гарью занесенной заводской окраины – на таинственную Петроградку, в отдельную квартиру с домработницей. Вся улица по-черному завидовала, лучшая подруга с Зоей из ревности рассорилась. А Зоя как представляла себе, что без нее Мурка будет часами кричать, стоя всеми четырьмя лапами на их общей подушке – так и сердце у нее падало. Все неотступней вспоминалось, как бедняга однажды прокричала целую неделю, когда Зоя лежала с тяжелой корью в Боткинских бараках. С тех пор они не расставались – девушка и животное. Чуть не все Зоины молодые фотографии – с Муркой в обнимку… А когда завидный жених, вежливый и полный свежих молодых идей юноша, появился в их длинной коммунальной комнате, Мурка стала уже совсем старенькая по кошачьему счету – ей незаметно стукнуло двенадцать лет. Чуя возможную разлуку – а может, и близким предательством несло, кто кошкин нюх проверял! – она и вовсе от Зои отходить перестала, а когда той не было дома – от двери Мурку было не отогнать. И вот теперь – взять и бросить ее, как Мурка и боялась, всю жизнь прожив с этим неотвязным страхом… Зоя не смогла. Месяц прорыдала в подушку… Жених, конечно, оскорблен был до глубины души – еще бы, а кто тут не оскорбится! Походил-походил обиженный, да и женился на другой. На той самой подруге. Осталась Зоя со старой кошкой в обнимку без жениха и подруги – всем на потеху и вечное осуждение… Ну, и что б вы думали? Жертва, конечно, оказалась напрасной: старушка Мурка умерла ровно через месяц после этого. Все знакомые при виде Зои открыто крутили пальцем у виска!
А еще через месяц началась война. В сорок четвертом стало известно, что бывшему жениху родители достали надежную «бронь» и мгновенно эвакуировались с оборонным заводом, где оба работали. Сына и сноху, конечно, забрали с собой – и больше Зоя никогда про них обоих ничего не слышала… Двадцать второго июня по всему городу стояли длинные очереди. Ни в какие не в военкоматы – эта пропагандистская байка была придумана придворными историками много позже. Умные люди кинулись в сберкассы, хорошо зная, что с минуты на минуту поступит приказ об изъятии «излишков» денег у населения на нужды обороны – а уж крепить оборону своими кровными никто не горел желанием. Из сберкасс счастливчики неслись в продовольственные магазины: умудренный опытом Гражданской, народ справедливо ожидал скорого голода. Те, которые в Ленинграде двадцать второго июня сорок первого года проявили патриотизм или просто растерялись, к декабрю поголовно умерли… Зоина мама, к тому времени уже два года как вдовая, не растерялась. Она работала кастеляншей в роддоме, а Зоя, второй раз провалив в финансовый институт, – там же в справочном, поэтому в сберкассе им было нечего делать, как и в магазинах: сбережений, чтоб запасаться едой, в доме сроду не водилось. Единственной драгоценностью немолодой мамы были две дочки-лапушки, восемнадцати и шести лет – и она уже к вечеру первого дня войны приняла единственно верное решение.
Зоя опомнилась вместе с другими согражданами уже утром двадцать третьего – и объявила матери о своем непреклонном решении идти на фронт… Дальше произошло вот что. Мама не торопясь намочила в зеленом эмалированном тазу белое вафельное полотенце. Она спокойно, без ненужного гнева, подошла к дочери и молча изо всех сил хлестнула ее мокрым полотенцем по возбужденному близостью долгожданного подвига лицу. Зоя ахнула. Мама хлестнула ее еще раз. И еще. И еще раз пятнадцать. При этом она своим обычным голосом, ничуть не истеря, размеренно повторяла: «Вот тебе фронт. И вот. И вот. И еще. Нравится? Получи. Вот тебе. Вот. И вот. Еще? Вот еще один фронт. Мало? Получи еще один». В военкомат Зоя благоразумно не пошла. Вместо этого по приказу матери она отправилась к не получившему пока никаких высоких распоряжений управдому и забронировала их комнату по случаю предстоящего длительного отсутствия. Они не стали дожидаться никакой организованной эвакуации, понимая, что надо не эвакуироваться, а просто и аполитично смыться. Не стали также и увольняться с работы: увольнения по собственному желанию уже год, как запретили, а возиться с официальными разрешениями было недосуг. Зоина мама, простая русская женщина, имела, как и многие из них, глобальное мышление. И предвиденье – не простое, а сопровождавшееся крупными прозрениями и откровениями. И двадцать второго июня она определенно прозрела катастрофу, среди последствий которой никто не вспомнит об их мелком правонарушении. А от катастрофы надо бежать, знала она. Бежать и спасать потомство. Пока оно не получило повестку… Мать и дочери выехали из Ленинграда с двумя чемоданчиками каждая, не сказавшись никому. Они проскочили в те последние часы, когда выезд не успели взять под тотальный контроль, и можно было еще просто пойти и купить билеты на поезд. Что они и сделали. И через две недели оказались на окраине далекого и надежного Свердловска (который если б немцы взяли, то уж точно после Москвы со всем правительством), в маленьком деревянном домике, где доживала старенькая бабушка. Зоя так и не уразумела, чья именно, но это было и неважно… Обе они сумели получить работу раньше, чем Свердловск затопило лавиной эвакуированных со всего Союза, тихую и спокойную работу в больнице, не успевшей пока превратиться в военный госпиталь – сначала санитарками, но скоро Зоя закончила краткосрочные бухгалтерские курсы. Ее незаметно перевели младшим бухгалтером – а мама к тому времени привычно переустроилась кастеляншей же. Младшую с сентября отправили в первый класс…
Так, милосердно не огрызнувшись, не плюнув в лицо ни огнем, ни морозом, ни кровью, прошла мимо них великая война. Через несколько однообразных десятилетий Зою наградят скромной медалью «Труженик тыла» – и это все, что у нее останется на память о тех смутных годах…
Выжившие ровесницы-подруги Зои после войны непредсказуемо оказались гораздо старше ее. Они либо прошли фронт, где жили год за пять, умывшись не своей, так чужой кровью, и вернулись взрослыми женщинами с погасшими глазами и боевыми медалями, либо уцелели в блокаду, навсегда распрощавшись со здоровьем и пересмотрев былые ценности. В любом случае, внешне благополучная Зоя, пересидевшая лихо в Свердловске, была им не компания – ее искренне и просто не замечали, потому что с ней не о чем было говорить, нечего вспомнить. Перенесенные той смехотворные лишения вроде, как им казалось, легкого недостатка вкусной еды и девичьих развлечений, не могли идти ни в какое сравнение с черным голодом, пережитым ими, с частыми потерями неделю по земному времени знакомых, но навечно близких людей, не восполнимыми никаким слишком дорого давшимся миром…
С тех пор Зоина жизнь постепенно ушла внутрь. Снаружи осталась только неизменная и уже неизменимая бухгалтерия – снова в Ленинграде, на сей раз не в больнице, а в восьмилетней школе на Васильевском острове – и шестнадцатиметровая комната в неуклонно вымиравшей коммунальной квартире. Мама успела до смерти не только поднять Зоину сестру до совершеннолетия и дождаться окончания тою института пищевой промышленности, но и погулять на свадьбе младшей дочери. Желанных внуков она, правда, увидеть не сподобилась, и нянчить сестриных девочек Аллу и Любу, у которых разница тоже вышла в двенадцать лет, пришлось безнадежной Зое – к тому времени давно неприметно перешедшей все возможные рубежи и законно числившейся в старых девах. Когда в начале восьмидесятых семья переезжала в новую квартиру, Зою некуда было девать как данность, и ее увезли с собой в качестве довеска – наравне с унылой канарейкиной клеткой и расписным горшком с полосатой традесканцией…
Однажды лукавая судьба подкинула ей роман Мопассана с незамысловатым названием «Жизнь». И то сказать – какая интеллигентная дамочка над ним не плакала! Да и в предисловии без обиняков поясняли для неразумных, что книга – «о безжалостно загубленной жизни молодой женщины». Зоя прочитала два раза – да какого же черта!!! Что это за загубленная жизнь, когда все в ней было, как надо: свежая влюбленность, вполне достойная свадьба с последующим романтическим путешествием на Корсику, обожаемый ребенок, экстатическое материнство! В мужья попался сукин сын, а собственное дитятко, повзрослев, сбежало из дома? Экая беда: пять копеек пучок такие неприятности стоят в самый удачный базарный день… Вот у кого в романе жизнь действительно оказалась загублена – так это у тети Лизон, парой точных штрихов описанной мастером как пустое место… Точно такое же, как и она сама, баба Зоя… Несколько лет она не называла себя иначе как «Лизон» – не вслух, разумеется, зачем лишние вопросы… Но те годы положили начало сложному и по первости самой Зоей не осознанному духовному процессу, растянувшемуся на десятилетия, и лишь многие годы спустя определенному ею как внутренняя эмиграция. Эта эмиграция незаметно увела ее гораздо дальше, чем бравировавших тем же красивым словосочетанием с жиру бесившихся диссидентов – потому что они эмигрировали лишь незрелым умом и слепыми растленными душами, не желавшими видеть в России ничего большего, чем ее трагическое несоответствие образу свободной страны в свободном мире. В отличие от них, Зоя случайно эмигрировала в область духа, где цепи накладываются совершенно добровольно, и со временем именно они становятся символом свободы – и залогом ее в неназываемом будущем. Неназываемом, потому что посмертном, которое, даже при всех неоспоримых доказательствах своего существования, все равно является вопросом веры, а стало быть, его вполне может и вовсе не оказаться… Как ни крути – а по-настоящему оттуда еще никто не возвращался. Кроме Лазаря Четверодневного – но его уже не спросишь. А когда еще можно было спросить, он все равно никому ничего не рассказывал. Но зато достоверно известно, что никогда не улыбался…
Зоя крестилась в семьдесят два года, приведенная для этого за руку своей бывшей одноклассницей, утраченной в сороковом году по причине ссылки в качестве «религиозников» обоих родителей, за которыми, как оказалось, благоразумно последовала и сама – пока не сослали в другую, еще более дальнюю сторону и не лишили тех иллюзорных гражданских прав, что к тому моменту еще оставались. Обрелась обратно она лишь через пятьдесят пять лет – причем настолько похожей на себя прежнюю, что Зоя мгновенно узнала в чуть-чуть подсохшей, чуть-чуть выцветшей, чуть-чуть полинявшей – всего по чуть-чуть – моложавой пожилой женщине давнюю, наглухо забытую Кирку Богданову, умницу и стройняшку, обладательницу небывалой длины и густоты черных, как вакса, ресниц, в которых тонули контрастно светлые, прозрачно-голубые глазищи. Ресницы поредели, как буйная шевелюра у иного мужика, а глаза не изменились вовсе… Зоя негаданно набрела на нее во дворе небольшой городской церквушки, внутрь которой заходить не собиралась, придя лишь по давней, атавистически соблюдаемой традиции освятить десяток луком крашенных яиц и пару скромных магазинных куличиков…
Французских и английских романов девятнадцатого века, без которых со школы не могла жить, Зоя с тех пор больше не читала. Без всякого сожаления перепрыгнув все художественные книги, написанные по обе стороны железного занавеса в железном же двадцатом веке, она восемнадцать лет читала только те, что дарила или рекомендовала ей воцерковленная Кирка, искренне не замечая, как явно и часто противоречат друг другу писания не только сомнительных современных духоведов, но даже творения признанных и, вроде, греховному обсуждению не подлежащих великих Отцов. Само же Евангелие долгое время Зоя могла осилить только адаптированное для детской воскресной школы… С Киркой, еще при Советах тайно принявшей постриг и ставшей своего рода Зоиным Вергилием – сравнение не очень передавало самую суть их отношений, но напрашивалось само собой – они почти не разлучались все эти годы, бесконечно разъезжая вместе по новым церковным знакомым, посещая дальние сплоченные приходы с таинственными, скромно носящими неявные нимбы прижизненной святости пастырями во главе, отстаивая длинные, мучительно-дивные монастырские службы.
Новым рубежом стала быстрая и блаженная Киркина смерть в самом конце девятого десятка. После Литургии на Валаамском подворье их обеих – и еще четырех причастниц преклонного возраста пригласила к себе обедать местная свечница лет семидесяти пяти, сущая для них девчонка. Она расстаралась из уважения к их возрасту: к чаю подан был невероятно душистый клубничный пирог, отведав которого и отодвинув пустые чашки, все поднялись на благодарственную молитву. Пропели – и дружно сотворили поклон, но из семи умиленных трапезниц восклонилось только шесть. Кира упала вниз лицом прямо из поясного поклона, и, когда старушки наперегонки подсеменили к ней вокруг большого овального стола, она уже не дышала…
До того момента Зоя из последних сил гнала от себя мысли о неизбежной скорой смерти. Не дура – и читала, и видела, и размышляла о посмертии – чисто умозрительно. О своем загадывала – тоже с оттенком недоверия. Кроме того, начитавшись о воздушных мытарствах всех, кто не поленился потом рассказать о них интересующимся смертным, Зоя твердо усвоила себе одну очевидную закономерность. Регулярные и очень основательные поставки грешников на соответствующие круги ада осуществлялись, в основном, именно мытарством блуда, располагавшимся обидно высоко: обреченный аду грешник, с горем пополам отбившись от разочарованных бесов на многочисленных предшествующих ступенях, уже обнадеженно взиравший на близкие райские врата, все-таки гремел вниз с головокружительной высоты, когда на шестнадцатом-восемнадцатом мытарствах выяснялась его дремучая блудная сущность. Никаких добрых дел и полезных свершений, растраченных на предыдущие малозначительные стражи, уже не оставалось в его похудевшем кошельке, чтобы расплатиться за проход именно через эту, почти для всех абсолютно непроходимую, как трясина… Так вот, добрыми поступками, достаточными на пятнадцать мытарств, Зоя запаслась с лихвой, а на мытарстве блуда ей ничто не грозило: прожив свою жизнь почти безупречной девственницей (в поцелуях, безответственно допущенных с несостоявшимся женихом, она благоразумно раскаялась еще на самой первой своей исповеди и, следовательно, стерла их из бесовских хартий), она могла надеяться пройти через блудные мытарства с высоко поднятой головой, чуть ли не поплевывая в сторону падших ангелов, окопавшихся там. Оставшиеся – колдовское и еретическое – и вовсе ее коснуться не могли, поэтому в тайне ото всех – но не от себя самой – Зоя иногда дерзала надеяться… Тем более, что пенсионные деньги с карточки ежемесячно снимала, излишки переводила в басурманскую валюту и складывала в самый надежный банк в мире – собственный коленкоровый чемодан с четырьмя железными уголками, имевший незаметную дырку в клетчатой подкладке… Это и были ее заветные «гробовые». Вместе с ними Зоя поместила обстоятельное письмо племяннице Алле, подробно расписав в нем, где следует на эти деньги ее отпевать (предпочла Владимирскую церковь, ибо очень любила синеглазого Нерукотворного Спаса), на каком кладбище хоронить (на Богословском, в ограду к матери и младшей сестре), и как поминать ее умеренно грешную душу (сочла достаточным сразу заказать сорокоуст, на девятый и сороковой день потребовала по панихиде, а после обязала родных лишь ежегодно обновлять ей «золотой пояс» – годовое поминовение, хорошо понимая, что в церковь Алла заходит разве что случайно, и поэтому ожиданием частых проскомидий не следует ей на том свете слишком уж обольщаться). Вполне пристойную сумму, которая должна была остаться после всех вышеописанных трат, Зоя справедливо делила между двумя внучатыми племянницами, Анжелой и Ларисой, считая, что уж на свадебное-то платье каждой с избытком хватит – старых дев нынче не бывает, кончилось их, горемычных, время… Все это Зоя сделала по примеру точно так же поступившей Киры, что тоже полвека, после своего возвращения в Ленинград (с добровольной ссылкой она не ошиблась, так никогда и не получив ни «по зубам», ни «по рогам») мыкалась смиренной приживалкой в семье дальних вполне интеллигентных родственников. Но, в принципе, и на рубеже девяностолетнего юбилея возможность близкой смерти парадоксально не представлялась Зое чересчур реальной. Выживаемостью она обладала несокрушимой от рождения, словно, когда-то втихомолку откусив по немалому куску от здоровья рановато ушедших матери и сестры и спокойно присоединив их к своему никому не интересному стародевичьему веку, ничтоже сумняшеся доживала за них обеих. Давление под сто сорок Зоя и в восемьдесят девять лет считала для себя высоким и хваталась за таблетки, сердце работало, как исправный электронасос, а некоторую утреннюю скованность в суставах пока игнорировала, зная, что на это же каждый день жалуется ее сорокавосьмилетняя племянница своему мужу-ровеснику, который вообще – одна сплошная болячка. Зоя намеревалась жить на земле долго-долго и по мытарствам отправиться еще очень нескоро, во всяком случае, сто лет твердо намеревалась осилить – а там видно будет…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Болезнь Альцгеймера – один из вариантов прогрессирующего старческого слобоумия.