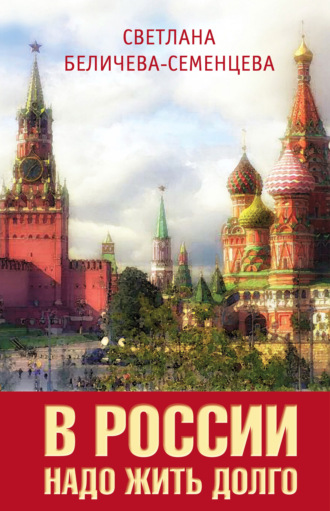
Полная версия
В России надо жить долго
Тем временем засияли на писательском небосклоне и новые имена издавших свои произведения, которые были под запретом до перестройки. Увидел свет арестованный когда-то роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», в котором автор посмел провести аналогию между политическими заключенными ГУЛАГа и нацистских концлагерей. Эта аналогия побуждала к размышлению о коммунизме и социализме, ради построения которых непогрешимый Владимир Ильич со своими сподвижниками, казненными потом в 30-е годы, совершил октябрьский переворот и развязал кровавую братоубийственную гражданскую войну. Но тогда было не до этих размышлений, нужно было переварить всю обрушившуюся информацию о жертвах культа личности и все стремительные бурные перемены, происходящие в обществе.
Тогда же мы начали зачитываться романом Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», ярким художественным произведением о сталинских преступлениях и сломанных сталинским режимом судьбах многообещающих молодых людей. И хотя его герои были городскими жителями, москвичами, он сумел показать и страшную трагедию крестьянства в пору ускоренно проведенной коллективизации. Вот главная героиня романа Варя, уже тогда возненавидевшая Сталина, беседует со старым интеллигентом, Михаилом Юрьевичем, работающим в центральном статистическим управлении, переименованном в ЦУНХУ-Центральное управление народно-хозяйственного учета. Михаил Юрьевич – единственный человек, с кем Варя может откровенно говорить о Сталине и его политике. Собственная сестра, член партии, категорически запретила говорить на эти темы даже с ней, поскольку в противном случае она вынуждена будет сдать сестру на Лубянку. Михаил Юрьевич, владея статистикой, в цифрах рисует трагические результаты ускоренной и насильственной коллективизации. С 1929 по 1933 поголовье лошадей сократилось с 34 миллионов до 17, крупного рогатого скота – с 68 миллионов до 38, свиней – с 21 миллиона до 12. В два раза сократилось поголовье скота, который уводили с домашних хлевов по сути дела на улицу под открытое небо, не успев построить конюшен и коровников и не успев запасти кормов на зиму. Можно представить, как голосили деревенские бабы, цыпляясь за уводимую со двора кормилицу семьи – корову. Мне об этом рассказывала моя деревенская бабушка, мамина мать из сибирской деревни Журавлевка. Когда поздней осенью в ноябре уводили последнюю коровенку, обрекая многодетную семью на голодуху, она выгнала на улицу свою бесштанную команду малолетних детишек, чтоб те облепили корову, голосили и не давали ее увести. К счастью, активисты, проводившие коллективизацию, смилостливились и не стали отдирать от коровы вцепившихся в нее ребятишек. Семья смогла выжить на картошке и молоке, иначе не остались бы в живых моя мама и ее братья, а заодно не появилась бы на свет и я. Благодаря тому, что в Сибири в изобилии садили картошку, ее жители в эти годы не умирали от голода, как вымирали на Украине и в южных районах России, после того как подчистую из амбаров выгребли все зерно. Да и зерна в 1933 году после коллективизации на 21 миллион тонн собрали меньше, что не помешало вывести за границу в неурожайные 1931-32 годы 12 миллионов зерна, тогда как в 27–29 годах вывезли за границу 2,5 миллиона тонн. Сталин, покончив с НЭПом и взяв курс на индустриализацию, за границей обменивал зерно на технику. И если во время НЭПа без всяких человеческих жертв смогли поднять из руин гражданской войны промышленность и сельское хозяйство, то ценой в 13 миллионов крестьян умерших от голода, погибших при раскулачивании и высылки в Сибирь, на север, была оплачена индустриализация. А к этой цифре еще следует добавить трудно подсчитываемые сотни тысяч и миллионы погибших крестьян, высланных в СИБЛАГи, и арестантов ГУЛАГа, ту бесплатную рабочую силу, непосильный 12-ти часовой труд которой оплачивался лишь скудной тюремной баландой.
Выдавая Варе всю эту убийственную информацию о коллективизации и ее трагических последствиях, Михаил Юрьевич убедительно просил ни с кем и нигде не говорить на эту тему, чтобы не погубить себя. Нельзя было также рассказывать и того, что Варя видела на Киевском вокзале, где вповалку лежали умирающие от голода люди, добравшиеся с голодного юга до Москвы с надеждой на спасение, и откуда их не выпускала милиция. Московский вокзал был оцеплен милицией, умирающих от голода, опухших, обезображенных людей не впускали в город, чтоб не портили картину победившего социализма. Знал ли об этом голодоморе Сталин? Наверно, знал, поскольку после гибельной, ускоренной коллективизации он издал Постановление ЦК ВКП (б) о перегибах на местах, обвинив во всем местные власти, которые добросовестно выполняли спущенную сверху разнарядку. А еще нашлись виноватые в Наркоземе, 35 руководящих работников которого вместе с заместителем наркома Конаром были расстреляны в 1933 году, о чем не преминули сообщить в «Известиях».
Популярность романа Рыбакова «Дети Арбата», в художественной форме описавшего ужасы сталинского режима, была так велика, что его сразу начали переиздавать миллионными тиражами. Очень это не понравилось собратьям по перу из противоположного лагеря. Наряду с положительными отзывами на писателя обрушился град критических статей, публикуемых в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва». Рыбаков вынужден был обратиться с открытым письмом в «Огонек», когда от критики романа его оппоненты перешли на личность автора, искажая и перевирая его прежние произведения с целью доказать, что Рыбаков, следуя моде, «перекрасился» из сталиниста в демократа. Особенно досталось популярному детскому роману «Кортик». Герои романа, подростки, разыскивая в старой крепости клад, обнаружили вооруженных контрреволюционеров и помогли их изловить. Критик Байнушев, очевидно, не очень внимательно читавший роман, а больше рассчитывающий на то, что и другие не знакомы с этим романом, мальчишек-романтиков превратил в павликов морозовых, доносящих на своих отцов. Как пишет Рыбаков, статья Байнушева началась ложью о «Кортике» и закончилась ложью о «Детях Арбата».
Невольно вспоминаются 30-е годы, когда критики дружно клеймили булгаковщину, произведения и пьесы М.А. Булгакова, добиваясь снятия их с репертуара. Его роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных», в которых русские офицеры, собиравшиеся дружной компанией у своего товарища Алексея Турбина в Городе, где беспрестанно менялась власть от гетмана Скоропадского, немцев до Петлюры и большевиков, совсем не были показаны с классовых позиций, как враги-белогвардейцы. И кроме симпатии и сочувствия, других чувств не вызывали, что уже было смело для того времени, когда шли процессы над врагами народа. И критические статьи в адрес автора носили характер политического доноса. Михаил Афанасьевич скрупулезно отслеживал эти разнузданные, критические публикации, насчитав 301 критическую статью в свой адрес, среди которых только 3 были положительными. Этими нападками и тем, что из репертуаров театров были сняты все его пьесы, а к печати не принимались его произведения, писатель был доведен до серьезного невроза, бессонницы и боязни одному выходить из дому. И вот что интересно, спас его Сталин, который прочитав письмо, написанное писателем, позвонил ему, и следствием этого разговора стало то, что Булгаков получил работу во МХАТе. По распоряжению Сталина в 1932 году был возобновлен во МХАТе спектакль «Дни Турбиных», снятый в 1929 после обильной серии критических статей, написанных собратьями по перу. Так велика была их зависть и желание выслужиться перед властями, что, однако, не спасло многих из этих критиков от ареста и расстрела в 1937-38 годах. И все-таки это удивительно и непонятно, как Сталин, не пощадивший Мандельштама, Пильника, Бабеля, Мейерхольда, несмотря многочисленные критические статьи, носящий характер политического доноса, не только не отправил Булгакова на Лубянку, но еще и поддержал его в самый критический момент жизни. Непрост был вождь и обладал каким-то сверхъестественным чутьем. Он сохранил Булгакову жизнь, что позволило писателю завершить свой последний гениальный роман «Мастер и Маргарита», который Елена Сергеевна, вдова писателя, смогла опубликовать в журнале «Москва» почти через 40 лет после смерти Булгакова, в конце 1966 года, на излете той самой хрущевской оттепели.
Не тронул Сталин и Пастернака, который вместе с репрессированными Бабелем и Мейерхольдом значился в списках вымышленной диверсионной организации работников искусства. Тогда ходили слухи, что Сталин отменил арест Пастернака со словами: «Не трогайте этого небожителя». И оставленный в живых небожитель получил возможность написать роман «Доктор Живаго», который, несмотря на время хрущевской оттепели, не пропустили строгие рецензенты из Союза писателей. Опубликованный в Италии, он был переведен на 24 языка, а автору в 1958 году была присуждена Нобелевская премия. Пастернаку в результате развязанной травли и опасения, что его могут лишить гражданства и выслать за границу, пришлось отказаться от Нобелевской премии. И опять же больше всего старались собратья по перу. На общем собрании московских писателей писатели, не читавшие романа, соревновались в красноречии, осуждая Пастернака. И роман его «поганый», и сам он «предатель, продавшийся за 30 сребреников», и «ему не место на советской земле», «дурную траву – вон с поля!». В обличительном красноречии всех переплюнул председатель КГБ СССР Семичастный, заявивший, что Пастернак хуже свиньи, которая не гадит в корыто, из которого ест. А ведь в романе ничего открыто антисоветского не было, ни критики Сталина и Ленина, ни критики большевиков и революции. Просто показаны мытарства во время гражданской войны врача-поэта доктора Живаго, его жены Жени, его любимой Лары, вынужденный отъезд за границу этих близких ему женщин и одинокая смерть в московском трамвае опустившегося Живаго. Несмотря на все публичные политические обвинения и разнузданные оскорбления писателя, Хрущев, прочитав письмо в ЦК, написанное Пастернаком с просьбой не высылать его из страны, что для него будет равносильно смерти, воздержался от высылки писателя. Не предполагал тогда Никита Сергеевич, что через 10 лет свои мемуары, которые ему запрещали в ЦК КПСС, придется, как и Пастернаку, публиковать на Западе. И также до того, как они будут изданы на родине, их переведут и издадут в 24 странах. Эта массированная и беспрецедентная травля не прошла бесследно для здоровья Бориса Леонидовича. В стихотворении «Нобелевская премия» он писал:
Я пропал, как зверь в загоне.Где-то люди, где-то свет,А за мною шум погони,Мне наружу хода нет.И действительно, столь беспрецедентной публичной травли Пастернак не выдержал, сердце «загнанного» писателя вскоре остановилось. После этих событий он прожил чуть больше года.
Горбачевская перестройка отменила политические доносы в форме критических статей, но не укротила завистливо нетерпимое отношение к чужому таланту и успеху, оставив в распоряжении этих критиканов такие испытанные средства как ложь, клевета, шельмование. К этим средствам недовольные перестройкой и демократизацией прибегали не только в писательских кругах, с этим же столкнулись и мы в той борьбе, которая разворачивалась на педагогических баррикадах.
Беспощадные педагогические войны
Рановато я радовалась и мечтала о безмятежной творческой работе над докторской диссертацией, когда с сентября 1985 года не без боя добилась докторантуры и получила два года свободы от учебных и других нагрузок по кафедре педагогики и психологии Тюменского университета, где я тогда работала. Беда свалилась, откуда меньше всего ждали. За время нашего двухмесячного отпуска бесконечными проверками по всем мыслимым и немыслимым линиям, угрозой увольнения и наказания до больничной койки и тяжелой болезни, пареза был доведен директор подросткового клуба «Дзержинец», местный Макаренко, как его называли в городе, Геннадий Александрович Нечаев. «Дзержинец» располагался в романтическом месте, в старой кирпичной водонапорной башне, выстроенной когда-то тюменскими купцами. С этой башней нам пришлось познакомиться в наш первый день прибывания в Тюмени, когда мы с мужем, оставив нехитрые пожитки на вокзале, шли по деревянным тротуарам очень грязного и убогого города в поисках моторного завода, на вычислительный центр которого были распределены после окончания Таганрогского радиотехнического института. Никто из встречных людей не мог нам объяснить, где находится моторный завод, и как туда добраться, что было и не мудрено, поскольку, как потом выяснилось, завода еще не было, он только строился. Пройдя пешком полгорода, мы в полной безнадежности остановились около этой самой кирпичной бывшей водонапорной башни, выгодно отличающейся от деревянных домишек, которыми по большей части была застроена тогдашняя Тюмень. И вот чудо, оказалось, что мы остановились на месте никак необозначенной остановки служебного автобуса, который раз в час следовал на моторный, о чем нам сказала ожидавшая этот автобус женщина.
Не думала я тогда, как буду связана с этой башней, и какую роль сыграет она в моей и не только в моей жизни. В следующий раз жизнь меня свела с башней летом 1975 года, когда я была избрана вторым секретарем Тюменского горкома комсомола и в первую очередь озадачена горкомом партии навести порядок в башне, где размещался подростковый клуб «Дзержинец». Клуб некогда был организован молодым сотрудником областного управления КГБ, и когда он уехал, пацаны остались без присмотра, и башня была превращена в притон. По витой лестнице я поднялась на все пять этажей башни и ужаснулась грязи, запустению и многочисленным пустым бутылкам на всех этих этажах. Нужно было решать вопрос с ремонтом, с чем, к счастью, справился студенческий строительный отряд Тюменского университета. Оставалось решить другую, еще более сложную задачу – найти директора этого подросткового клуба, способного успешно работать с трудными подростками. Опрос общественного мнения вывел меня на Нечаева Геннадия Александровича, улыбчивого крепыша, самбиста. Не без труда удалось его сосватать на эту должность, и выбор оказался как нельзя более удачным. Вскоре трудные подростки со всего города, узнав, что здесь можно поднакачаться и освоить самбо, потянулись в башню. Но Генсаныч, прежде чем допустить к самбо, требовал проявить себя в коллективных творческих делах по благоустройству и озеленению города, помощи одиноким ветеранам, участии в поэтических вечерах, спортивных соревнованиях и прочих интересных клубных мероприятиях. Органы самоуправления, командиры взводов и отрядов, до должности которых тоже нужно было дорасти, позволяли Генсанычу без дополнительного штата справляться не с одной сотней подростков, посещающих клуб. А были среди них и немало стоящих на учете в милиции подростков из очень неблагополучных семей, братья которых уже мотали сроки за совершенные преступления. По сути дела Генсаныч в условиях подросткового клуба применял макаренковский принцип воспитания в коллективе и через коллектив. То есть в клубе была создана воспитывающая среда, куда тянуло подростков, ставших изгоями в школе, та среда и отношения, которые воспитывали и перевоспитывали.
Позже и мне пришлось постигать педагогическую систему Антона Семеновича Макаренко, когда после защиты диссертации на факультете психологии в Ленинградском университете, исследовавшей психологию несовершеннолетних правонарушителей, я стала работать на кафедре психологии и педагогики в Тюменском госуниверситете. Мне сразу же поручили руководство макаренковским ФОПом (факультетом общественных профессий). Тогда студенты в течение первых трех лет обучения должны были обязательно посещать по своему выбору один из ФОПов, которых при разных кафедрах было немало. Макаренковский ФОП был одним из самых трудных, поскольку, прослушав на первом курсе теоретический курс, на втором и третьем курсе студенты должны были шефствовать над подростками, стоящими на учете в милиции, бывать у них в школе, дома, помогать с учебой. А главное, и самое трудное, – пытаться оздоравливать семейную обстановку, то есть перевоспитывать не столько подростков, сколько их неблагополучных родителей, злоупотребляющих спиртным, а заодно и благополучных, злоупотребляющих ремнем. Меня очень удивляли и поражали эти 18-19-летние девочки, которые добросовестнейшим образом шефствовали над своими трудными подростками, вели дневники наблюдения, приходили консультироваться в сложных случаях. И двигало ими, как и Макаренко, как и Генсанычем, любовь и сочувствие к этим незадачливым пацанам. Мне было хорошо понятно и знакомо это чувство сострадания и желание помочь трудному подростку. Еще работая в комитете комсомола на моторном заводе, я возилась с нашими несовершеннолетними прогульщиками, выпускниками ПТУ (профессионально-технических училищ), бывшими детдомовцами. Приходила с тортиками к ним в общежитие, они бывали у меня дома, во все глаза, как музейный экспонат, рассматривая нашу скромную, хрущевскую однокомнатную квартиру, поскольку никогда до этого им не приходилось быть в домашней обстановке. Поражало, как они нуждались в тепле и внимании, и, неизбалованные таким отношением, в благодарность готовы были не только не прогуливать рабочие дни, но и учиться в вечерней школе, доверять свои секреты, лишь бы не потерять это теплое отношение старшего друга.
Особенно ужалило меня сострадание к подросткам-правонарушителям, когда, работая над диссертацией, в следственном изоляторе я проводила их обследование. Замполит следственного изолятора сердобольный Печеркин Михаил Семенович тоже сострадал своим несовершеннолетним заключенным. И когда узнал о теме моей диссертации, пошел на грубейшее нарушение режима, разрешил мне работать в воскресенье, когда не было следователей и охраны, и пустовал пристрой с кабинами для следственных допросов. Он выводил после завтрака пять пацанов, рассаживал их по кабинам, закрывал пристрой на ключ, оставляя меня одну с этими подследственными, совершившими групповые преступления.
Тема моей диссертации была «Престижность и асоциальное поведение несовершеннолетних», которая должна была выяснить, какие мотивы и причины заставляли сбиваться этих пацанов в асоциальные группы, быстро перерастающие в опасные разбойничьи стаи. Помимо анкетирования и тестирования, мне удавалось разговорить ребят, и исповеди об их безрадостной жизни приводили в глубокое уныние. Для большинства этих подростков было неожиданным открытием, что, оказывается, есть взрослые люди, которые без крика и нравоучений могут спокойно и доброжелательно разговаривать, и которым интересны они и их судьбы. Ведь до сих пор ими интересовались только строгие тетки в милицейских костюмах из инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН), которые грозили им тюрьмой, родителям – штрафами, а еще вызовом на комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). Интересное это было образование КДН, работающее на общественных началах и состоящее из представителей милиции, образования, комсомольско-партийных органов. За одно заседание они могли рассмотреть до 30 дел, тратя по 10 минут на каждую неблагополучную семью и подростка-правонарушителя. По итогам такого рассмотрения выносились штрафы, выговоры родителям и письма на их работу, что, конечно, мало помогало в профилактике правонарушений несовершеннолетних. За 20 лет, с 1968 по 1988 годы, в благополучном Советском Союзе преступность несовершеннолетних выросла на 200 %, то есть росла в среднем по 10 % в год.
А Генсанычу удавалось без всяких КДН и ИДН справляться с этими трудными подростками, отрывать их от опасных уличных компаний, мало того, он рискнул принимать в клуб даже и сами эти компании, асоциальные группы и переориентировать их на общественно-полезные дела. Вот эта успешная профилактическая работа Нечаева как раз больше всего и раздражала милиционерш, инспекторов по делам несовершеннолетних. Они первыми начали атаку на «Дзержинец» и ринулись проверять его работу, обнаружив, что в клубе, оказывается, нет планов индивидуальной работы со стоящими на учете подростками и их родителями. Не делил Генсаныч своих питомцев на трудных и благополучных. К милиции подключились представители образования, отправив для проверки въедливую методистку из дворца пионеров, затребовавшую планы воспитательной работы по эстетическому, физическому, патриотическому и прочему воспитанию. Все это воспитание реализовывалось в клубе, но оно не соответствовало бюрократическим требованиям въедливой методистки. Проверяющим милиционершам из инспекции по делам несовершеннотлетних особо не понравился принцип самоуправления, на котором строилась жизнь в клубе. Они считали, что Нечаев из лени перекладывает свою работу на дзержинцев, которые доросли до командиров отряда и самостоятельно вели спортивные секции, вместе с ребятами готовили и проводили различные клубные мероприятия. Подключился к проверкам и совет ветеранов. Особо старался еще вполне крепкий старичок, служивший когда-то в СМЕРШе и с гордостью рассказывавший, как во время войны он расстреливал и не закапывал. Вот это «не закапывал» он произносил с особой гордостью. Старичку не понравилось вообще все, что он видел в клубе. Как водится, никто из проверяющих не захотел встретиться и поговорить с ребятами, познакомиться с альбомами, где были расклеены фотографии бывших дзержинцев в военной форме, присланные из армии теми подростками, которые когда-то стояли на учете в милиции, и которые могли бы сейчас быть не в военной, а арестантской форме. Обо всех обнаруженных нарушениях проверяющие тут же сообщили в прокуратуру. А поскольку за короткое время андроповского закручивания гаек прокуратуре требовалось особо остро реагировать на сигналы, то в клуб явился и прокурор по делам несовершеннолетних. Пробыл он там 10 минут и пришел к выводу, что изложенные в заявлениях факты подтвердились, и Нечаева следует уволить, а работу клуба временно приостановить. Но уволить Нечаева не успели, парализованный крепыш Генсаныч свалился на больничную койку.
Обо всех этих печальных событиях рассказали прибежавшие ко мне домой взволнованные дзержинцы и макаренковцы. Надо было что-то делать, спасать Нечаева, спасать «Дзержинец». В одиночку с такой задачей было не справиться, и на квартире у меня начал заседать штаб. И тут мы вспомнили всех знакомых журналистов. Тюменский журналист Сергей Пахотин, друживший с Нечаевым и его клубом, опубликовал гневную статью в «Тюменской правде». Связались с Валерой Хилтуненом из «Комсомольской правды», который когда-то был в «Дзержинце» и писал о нем. Валера решил, что с гороно лучше всего справится «Учительская газета», и в Тюмень приехала его жена Лена Хилтунен, работавшая в «Учительской газете» – «Учителке». На имя начальника областного УВД я подготовила коллективное обращение от лица представителей науки, сочувствующих «Дзержинцу» преподавателей университета. И наконец, к делу подключился мой хороший приятель, собкор «Советской России» Игорь Огнев, после публикации которого не так давно от работы был отстранен первый секретарь Тюменского горкома КПСС В.Д. Уграк. И когда Огнев с этой проблемой зашел к секретарю горкома партии, горком партии принял все меры, чтобы загасить пожар вокруг «Дзержинца» и не допустить очередной скандальной публикации в «Советской России», органе ЦК КПСС, что грозило серьезными неприятностями партийному начальству. Общими усилиями «Дзержинец» был спасен, а Генсаныч не только не уволен, но и после больницы отправлен на курорт для восстановления здоровья.
Шум и волну общественного возмущения вокруг «Дзержинца» мы подняли такую, что мне домой позвонила недовольная секретарь горкома партии Тетерина Клара Афанасьевна. Она потребовала, чтобы я прекратила эту шумиху вокруг клуба, которая не дает им в горкоме партии спокойно работать. На что я ответила довольно дерзко: «Если такие как Нечаев оказываются в больнице из-за всех этих проверок, мы с вами, вы как партийный секретарь, я как ученый, даром едим свой хлеб». Эта дерзость мне дорого обошлась. Клара Афанасьевна потребовала, чтобы городская прокуратура проверила хозтему, которую два года назад мы с макаренцевами провели по заданию областного УВД. Я тогда обобщила данные о подростках, стоящих на учете в милиции и их родителях, над которыми шефствовали мои макаренковцы. На этой основе были подготовлены психолого-педагогические рекомендации для инспекторов по делам несовершеннолетних. Деньги на эту работу были выделены весьма скромные, что, тем не менее, позволило моим лучшим макаренковцам выплачивать скромную зарплату. Когда прокурор города, с которым мы были хорошо знакомы, получил от горкома партии задание проверить эту два года назад закрытую хозтему, он позвонил мне и спросил, что там у меня происходит. Я попросила его об одном: отправить для проверки самого добросовестного прокурора. Времена были андроповские, когда прокуратура и другие правоохранители особо свирепствовали, и, конечно, результатов этой проверки я ждала с большим беспокойством.



