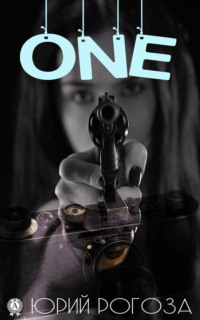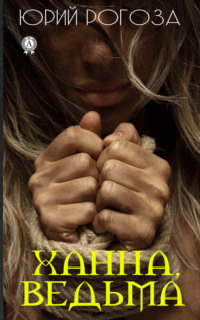Полная версия
Маленькая Лиза

Юрий Рогоза
Маленькая Лиза
…la petite fille a beaucoup de grands secrets…
ПРЕДИСЛОВИЕ ЛИЗЫ
Это моя книга, а не Рогозы. Честное слово. В ней все – мое и обо мне. А Рогозу я выбрала сознательно – знала, что он не упустит случая повыпендриваться, поскандалить и заработать денег.
Кроме того, когда мы с ним договаривались, я всего боялась – живых ментов, мертвых призраков и просто незнакомых людей. А сейчас это прошло, и я вдруг почувствовала, как это несправедливо, что мою историю рассказывает другой человек. Как будто я просто выдумана, а на самом деле меня нет, и не было.
Я есть. Я живу. Я подросла и даже немного поправилась, ребра уже не торчат. Ребятам в классе это, по-моему, нравится.
Мне очень хочется рассказать вам всем правду о себе. Рассказать самой, без чужих мыслей и придумок. Сейчас это уже, конечно, не получится, но редактор – он очень хороший, замечательный человек – сказал, что имеет право опубликовать мое предисловие. Вот я его и написала.
С Рогозой, конечно, некрасиво получилось. Но мне его не жаль – он хитрый, и по-моему, не очень добрый. Я видела по – настоящему добрых людей, так что могу сравнивать. И потом – я же не претендую на его гонорар, денег у меня много. Так что все честно.
Когда будете читать книгу, постарайтесь понять меня и не считать просто жестокой дрянью. Ведь с вами такое тоже может случиться. Никто же не знает, как сложится жизнь дальше.
Лиза Н.ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Это – моя книга. От начала и до конца. Она стоила мне нервных срывов и красных от усталости глаз. Она – строчка за строчкой – появлялась на свет душными городскими ночами под клацанье клавиш моего ноутбука.
Только умственно отсталый ребенок принял бы за книгу каракули в школьной тетради в клеточку, которую принесла мне эта испорченная малолетка. О ее косноязычных рассказах и комментариях вообще говорить не приходится. Выстраивать из них более или менее стройную повествовательную линию было тяжело и неинтересно.
Но всерьез злиться на Лизу я не могу. Это все равно, что злиться, скажем, на кошку.
Другое дело – издатели. Эти умники решили, что напечатать в начале моей книги предисловие несовершеннолеиней дурочки «целесообразно с коммерческой точки зрения». Я же считаю, что с их стороны это – свинство и нарушение профессиональной этики.
Впрочем, удивляться не приходится. Эпоху Мастеров мы не застали, приходится жить во времена продюсеров. Людей, которые потребляют наш труд и талант, а все вырученные за них деньги оставляют себе. Чтобы мы не могли позволить себе спокойной сытой жизни, и скоро явились к ним с очередным шедевром, который они милостиво будут готовы приобрести за гроши.
Ну, да ладно. Главное, что книга у вас в руках. И на ней заслуженно стоит мое имя.
Получите историю маленькой Лизы.
Юрий РОГОЗАСветлой памяти Сергея Евгеньевича Палагутина
(если он уже умер, в чем я лично не уверен).
Спи спокойно, Рыжий,в этой их «новой реальности»тебе, алкоголику и засранцу,все – равно не нашлось бы места.«А нечистый – то не спит, тут как тут,в ухо шепчет, за рукав дергает…»отец Никодим (в миру Аникеев)МЕНТ
Так обычно и бывает. Хочется сидеть в полумраке дорогого уютного кафе (непременно около окна) с бокалом мартини и тонкой сигаретой, и смотреть на огни уходящего в ночь города. А сидишь в отвратительном ментовском кабинете, тесном и убогом, пропитанном многолетней плесенью допросов, признанок и других похожих радостей. Хотите увидеть стул, на котором никто не хочет сидеть? Зайдите в любую ментуру, он там стоит в комнате каждого опера – жесткий, потертый, пахнущий злым страхом и сотнями поломанных жизней. Я в эту минуту как раз сидела на одном из них.
Но перестала обижаться, как только увидела, что Мент и сам сидит точно на таком же, только символично стоящем по ту сторону стола и слепящего прожектора лампы. Есть все – таки на свете справедливость.
От Мента пахло дешевым одеколоном и почему – то кожей, хотя он был в старомодной джинсовой рубашке. Запах был резким, злым, очень настоящим. Этот запах был единственным, что мне нравилось в этой мрачной пыльной комнатке. Позже я поняла, в чем дело – Мент был перепоясан ремнями кобуры из толстой рыжей кожи, и, усиленная вонью ружейной смазки, эта кожа красиво пахла мужеством и смертью.
Сам Мент уже несколько минут молча разглядывал меня через стол. А я в это время украдкой рассматривала комнатку. Или может, правильнее сказать – кабинет? Блеклые стены, зарешеченное немытое окно, отвратительный сейф – железяка в углу, покрытый пятнами китайский электрочайник… Нет, менты никогда не победят, я видела кабинеты тех, с кем они пытаются бороться.
Я чуть повернула голову и вздрогнула. Они смотрели на меня из полумрака. Все пятеро. Смотрели с черно – белых фотографий, аккуратно прикнопленных к стене. Те, из-за кого я здесь. Те, без кого я не стала бы такой, какая я сейчас.
Олигарх, Мэтр, Бюджетник, Телеблядь, Попик.
Женя и Антибренд смотрели с другого, противоположного, конца стены. Чтобы не перепутать. Живые и мертвые. Кажется, есть такая книга.
Но это у нормальных людей – живые и мертвые. А у ментов – подозреваемые и потерпевшие. Те, кого можно и нужно посадить и другие, которые не сядут уже никогда. Как ни старайся…
– Волнуешься? – хрипло спросил Мент из полумрака.
– Волнуюсь – честно ответила я – Я мопед не пристегнутым оставила. У вас тут даже пристегнуться не к чему.
– Ничего, там камеры наблюдения стоят – успокоил Мент – А хочешь – сходи, во двор загони, чтобы не дергаться.
– А это у нас что, надолго?
– От тебя зависит.
Он закурил, причем так вкусно, что мне тут же захотелось сигарету. Но попросить я не решилась – еще подумает обо мне неизвестно что. Вместо этого я попросила:
– Лампу опустите, пожалуйста. Слепит.
Раздался противный пластмассовый скрип, луч света уперся в стол, и в комнатке сразу стало уютнее. Только лица мертвецов на стене проступили еще яснее, и от этого было немного не по себе.
– Вот такие дела – словно прочитав мои мысли, выдохнул Мент – Два дня – пять трупов. Неслабо, да?
– Время такое – тихо ответила я.
– Да ладно тебе – устало выдохнул Мент – Время… А раньше что, по – другому было?
– Да. По – другому.
– Интересно…Это как же?
– Добрее и лучше. Потому что в людях было больше Бога и меньше говна.
Мент поднял на меня удивленные глаза.
– Ты – то откуда можешь знать?
– Бабушка рассказывала.
– А… – Мент раздавил окурок в пепельнице и устало провел ладонями по лицу – Кстати, позвонить ей не хочешь? Волноваться, наверное, будет.
– Не будет, она привыкла – я изо всех сил постаралась сказать это спокойно. И у меня получилось.
– Ну, как знаешь… – Мент придвинул к себе худую картонную папку и посмотрел на часы – Тогда давай. Рассказывай.
– Что…рассказывать? – растерялась я.
– Вот только дурочку мне здесь валять не надо – голос Мента вдруг зазвучал жестко, пугающе – Убиты пять человек. Совершенно разных и непохожих. А связывает их только что?!.. Правильно, все они были знакомы с тобой. Поняла, нет?
Мне вдруг стало очень страшно.
– Вы что же… Вы…меня подозреваете? – спросила я и не узнала собственного голоса.
Мент мучительно вздохнул и сказал немного другим тоном:
– Да расслабься, не подозреваю. Подозревал бы – по другому разговаривал.
И он снова посмотрел на часы.
– Тогда хоть бы кофе предложили. А еще лучше – сигарету… – не удержалась я.
Мент пристально посмотрел на меня и бросил на стол пачку «Кэмела».
– Тебе сколько – пятнадцать?
– Тринадцать. Но курить от этого не меньше хочется.
И я запустила пальцы в пачку, пока он не передумал.
– Тринадцать… – устало и задумчиво повторил Мент – Еб твою мать… И откуда ты такая взялась?
Кто? Я?…
Я
Я взялась из истерзанного болью влагалища женщины, на звонки которой сегодня стараюсь не отвечать (правда, она сама звонит раз в месяц и то не очень настойчиво). Случилось это в провинциальном украинском городе Сумы, в роддоме номер два, на улице Санаторной. Конечно, я не помню, как рождалась на свет (по – моему, все, кто говорят, что помнят – врут), зато я очень хорошо помню, что наступило потом.
Потом наступило счастье. Абсолютное, непрерывное, такое настоящее, что и представить себе нельзя было, что оно когда – нибудь может закончиться. Счастье состояло из слепящего солнца, запаха листвы, ярких связок рвущихся в небо воздушных шариков, неудержимого, как полет, бега по изумрудной траве, огромных снежных сугробов зимой, волшебных огней салюта в праздничном небе и – смеха, смеха, смеха… На всех детских фотографиях я улыбаюсь – широко и радостно, от уха до уха (может быть, поэтому сейчас я такая хмурая – отулыбалась на долгие годы вперед?)
У моего счастья было имя – Папа. Я даже не могу просто сказать, что любила его, это значило бы не сказать ничего. Он был центром мира, всем миром, частью меня (конечно же, наоборот – я была его маленькой частичкой!). Я осознавала, что в мире все в порядке, только когда сидела на его широких крепких плечах, или с замиранием сердца слушала сказки, которые он мне рассказывал, или обнимала его маленькими ручками, чувствуя родной до крика запах. С этим запахом вообще доходило до смешного – я отбирала его приготовленные для стирки футболки и прятала у себя в комнате – нюхала их, надевала на себя (они были огромными и сидели на мне, как широкие платья), засыпала в обнимку с ними. Мама ругала меня за это, но не сильно и как – то нехотя, словно для порядка (позже я поняла, что так оно и было).
Знаю, сейчас многие умники начнут говорить, что им все ясно, что психиатры давным- давно изучили это явление и даже придумали для него какое – нибудь мерзкое слово. Так вот, идите вы все в жопу. Никакая это была не психиатрия, и никакой не диагноз, а просто – огромные любовь и счастье маленькой девочки в городе Сумы. Тем более, я же не была дебилкой, нет – я ходила в садик, играла вместе с девочками в куклы и «секреты», лазила по деревьям и кормила бездомных котят. Жила, как все, одним словом. Что же шизофренического в том, что мир с первого дня подарил мне человека, прикасаясь к которому, я радостно задыхалась от добра и счастья?
Папа был лучшим человеком на земле. Я не фантазирую и не вру, серьезно, мне же с тех пор пришлось повидать много разных людей. Он был сильным, веселым, заботливым и красивым. Я, к примеру, ни разу не видела его злым. Или грустным. Или просто раздраженным. Он каждый день ходил на работу, но возвращался не подавленным и усталым, а улыбающимся и свежим, готовым превратить остаток каждого дня в праздник и приключение. Он никогда не старался разбогатеть, но у нас все было (у меня – так точно!). И еще – он никогда не болел (может быть, поэтому, я – тоже). Недавно я сформулировала для себя – папа просто был человеком счастливым. А это, скорее всего, особый и очень редкий талант. Я знаю, на кого был похож папа – на положительного героя из старых фильмов. Советская система наверняка стремилась создать общество именно таких людей, как он. Но у нее не получилось. Или она не успела. А сейчас это уже неактуально и миру нужны совсем другие персонажи.
Наверное, будет несправедливо, если я ничего не скажу о маме. Хотя бы в память о папе – ведь он любил ее, так же просто и радостно, как меня (хотя, что это я, по – другому, конечно, но тоже очень сильно и искренне). Он все время покупал маме красивые вещи, одежду и украшения. У нас с ним даже была особая игра – прятать обновки в комнате и заставлять маму угадывать название подарка, говоря первую букву и прыская от смеха и нетерпения.
Не буду врать, мама не выглядела несчастной (рядом с таким человеком, как папа, это было просто – напросто невозможно). Но она воспринимала все, что он делал, с какой – то снисходительной и чуть усталой улыбкой, словно относилась к нему, как к большому ребенку. Выглядело так, словно она просто терпела наши с папой счастливые игры. Она не была счастлива, это точно. Она принимала и прощала. Тогда, в детстве, мне это просто казалось странным и обидным. Повзрослев, я подумала было, что папа мог не удовлетворять ее, как женщину, но тут же поняла, что это бред – он просто не мог не быть лучшим во всем, если бы вы его знали, то согласились бы). Кроме того, мужчины, слабые в сексе, сразу видны – печать растерянного неудачника на их лицах заметна издалека. А папа излучал силу и уверенность в каждом шаге.
И еще. Слабые мужчины не любят дарить любимым женщинам цветы. Это же факт, глупо спорить, это все знают. Папа приносил домой цветы постоянно – огромные дорогущие букеты, которые наполняли наш мир ощущением богатства и праздника. Теперь я ненавижу цветы. Видеть их не могу. Никогда не покупаю сама и не принимаю от других (правда, никто мне их и не дарит). Я проклинаю все цветы мира. Сейчас поймете, почему.
…В тот день (это было полтора года назад, в среду) папа вернулся домой с работы, держа в руках офигительную коробку шоколадных конфет и бутылку дорогого шампанского. То ли собирался что – то отметить, то ли просто хотел устроить нам праздник без всякого повода (он часто так делал). Мама как раз заталкивала в мусорное ведро огромный букет астромерий (тот еще не завял, был очень красивым, но несколько цветков опало, а мама не любила поднимать их с пола). Увидев это, папа быстро поставил конфеты и шампанское на тумбочку в прихожей, чмокнул меня и маму и метнулся за дверь, с улыбкой бросив на ходу:
– Я сейчас. Я – мигом!..
Справедливости ради нужно сказать, что мама пыталась его остановить, выйдя на лестничную площадку, крикнула что – то вслед легкому стуку папиных каблуков, но сделала это, как всегда – чуть лениво и снисходительно, и было ясно, что папа не остановится и не вернется без цветов.
Он не вернулся вообще. Пролетающее по улице такси (пассажиры опаздывали на самолет) даже не успело затормозить, когда папа выскочил из подъезда прямо ему под колеса.
И мир стал другим. Так бывает, когда ломается телевизор – не перестает показывать совсем, но что – то перегорает там, внутри, и яркие краски, раньше режущие красотой глаза, становятся блеклыми и как – будто пыльными.
Папу хоронили в закрытом гробу – от удара о бордюр его голова треснула и разлетелась на части. Но мне не было страшно. Мне вообще никак не было. В меня словно вложили тяжелую холодную железяку, которая делала все происходящее не особенно важным. И похороны, и произносимые на них какими – то людьми ненужные слова, и отвратительный запах сырой земли на городском кладбище, и сочувственно – любопытные взгляды одноклассников. Железяка не исчезала ни на миг и делала все это терпимым. Она и сейчас во мне, кстати говоря, только чуть нагрелась от времени и кажется уже не такой тяжелой (может, потому, что я немного подросла?)
Папа и после смерти продолжал любить и беречь меня. Как? Очень просто – он мне не снился, не являлся в виде призрака, не подмигивал с фотографий, не мерещился в толпе. Иначе и быть не могло, это же был папа, мой папа, который никогда не напугает меня и не сделает мне больно. Я и заплакала – то после его смерти всего один раз, когда мама, ничего не сказав мне, перестирала все его вещи, и среди них – домашнюю футболку, которую он носил в последние дни. Она никуда не делась, эта футболка, но пахла теперь не папой, а вонючей химической свежестью «Ленора», которую в телерекламе называют «альпийской». Тут даже железяка не помогла, и я, как дура, проревела всю ночь, потому что не могла, как ни старалась, вспомнить папиного запаха. Старалась – и не могла, снова старалась – и снова не могла. Это было важнее всего, это было главным, я билась в судорогах и соплях, а он все не вспоминался и не вспоминался, делая меня сиротой и заставляя плакать от жалости к себе…
Но утром я успокоилась. И просто положила выстиранную футболку в шкаф – зачем она нужна, если не помогает вспомнить, каким оно было, счастье?
А потом появился дядя Аркадий.
В американском фильме Гамлет говорит, что его мать вышла замуж, «туфель не износив, в которых шла за гробом мужа» (или что – то в этом роде). Непонятно, что его так сильно удивляло, Гамлета. Мама тоже вышла замуж за дядю Аркадия в туфлях и платье, подаренных папой. И тоже всего через несколько месяцев после папиных похорон.
Наверное, мне полагалось бы возненавидеть маминого мужа или что – нибудь в этом роде. Но ничего, похожего на ненависть, я не чувствовала. Наверное, в мире, где нет папы, уже ничему не приходится удивляться. Жди чего угодно.
Дядя Аркадий был располневшим жопастым дядькой с лоснящимся лицом и прохудившимися по центру головы волосами. Занимался он «мелким бизнесом» – владел двумя лотками-раскладками на Центральном рынке, где нанятые им молодые крестьянки подавали шпроты, макароны, крышки для консервных банок и томатную пасту местного производства. К своему делу дядя Аркадий относился серьезно. По вечерам они с мамой садились на кухне, раскладывали какие – то накладные, доставали калькулятор и до ночи живо обсуждали поставщиков, цены и налоги. Причем мамин, доносящийся из кухни, голос, звучал даже звонче и взволнованней, чем голос ее нового мужа. Очень скоро она стала ездить с ним на какие – то деловые переговоры, а днем я все чаще видела ее склонившейся над бумагами и слышала, как она то властно, то заискивающе обсуждала по телефону разные вопросы «мелкого и среднего опта».
Папину машину (на ней он тайком от мамы учил меня за городом вождению) они продали, вместо нее купили огромный грузопассажирский минивэн, который ночевал у нас под окнами, перегородив пол – двора.
Однажды мы даже пошли все вместе в ресторан. Оказывается, дядя Аркадий (или, может быть, уже правильнее сказать – они с мамой) сумели открыть еще один лоток, и не где – нибудь, а в самом Киеве, на Владимирском рынке. Это достижение мы, собственно, и отмечали. Мама немного опьянела, разулыбалась, то и дело обнимала и целовала меня (чего за ней раньше не водилось) пухлыми влажными губами, и именно там, за ресторанным столом, я вдруг поняла, что совершенно не виню ее. Честное слово. Было же видно – рядом с этим лысеющим и всегда немного потным лотошником она абсолютно счастлива. Так же безоглядно и пронзительно, как я была счастлива рядом с папой. Просто в том облачке абсолютного счастья немного чужой была она, а теперь вот пришла моя очередь…
Любящие друг друга радостно и всей душой подсознательно стараются никого не впускать в свой мир. Или наоборот – очень даже сознательно, кто знает. Во – всяком случае, я даже не удивилась, когда вдруг выяснилось, что в Москве умерла моя двоюродная бабушка (я о ней раньше даже никогда не слышала), оставив мне двухкомнатную квартиру в старом, но отремонтированном, доме на улице со смешным названием Большая Грузинская, и мама с дядей Аркадием как – то быстро и окончательно решили («хоть это и непросто, мы будем тревожиться, ты, конечно, уже взрослая девушка, но все – таки, если только хоть что – то пойдет не так, ты сразу должна вернуться…»), что закончить школу мне лучше в Москве. Я даже немного зауважала маминого мужа – квартира, как я скоро узнала, стоила целое состояние, и, продав ее, он мог бы открыть не один десяток лотков для торговли шпротами и томатной пастой в Сумах, Киеве, и даже той же Москве. Но он вместо этого метнулся в столицу, прихватив с собой пакет долларов чудовищных размеров, а, вернувшись через неделю (уже без пакета), гордо сообщил, что все бюрократические препоны сняты – я россиянка, москвичка, и меня с дружелюбным нетерпением ожидают в восьмом классе 101 – й школы Краснопресненского района столицы.
Вот так все и закончилось. Или наоборот – началось. Зависит от того, с какой стороны жизни смотреть.
Сегодня, приблизительно понимая, во сколько обошлось мое волшебное превращение из сумской полусироты в живущую в центре Москвы гражданку России, я лишний раз убеждаюсь – потный Аркадий по – настоящему любит мою маму. В пересчете на деньги – любит до усрачки. А значит, ей страшно повезло – в мире, где так хреново обстоят дела с любовью, встретить преданного тебе всей душой торговца шпротами – огромное радостное чудо.
А я… Нет, я не чувствовала себя выброшенным на улицу щенком. Ни одной минуты. Честное слово. Мое счастье умерло в кровавой луже на улице Роменской, а пытаться согреться в солнечном зайчике чужого – жалкая затея…
Во время последнего телефонного разговора (почти два месяца назад) мама спросила меня, не страшно ли мне одной в Москве (опомнилась!). Не вдаваясь в детали, я ответила:
– Что ты, мам. В тринадцать лет чувствуешь себя уже совсем взрослой. Ты просто забыла.
На самом деле, я была взрослой уже тогда, год назад, когда крыши уютного городка Сумы, родины художника Бурлюка и президента Ющенко, медленно поплыли за окнами моего поезда. Мама и дядя Аркадий стояли в обнимку и, счастливо улыбаясь, махали мне руками (он – правой, она – левой), но я смотрела не на них, а на клочок пасмурного неба над городом. Так, счастливое детство проехали – очень четко сформулировала я тогда сама для себя – Что теперь?…
МЕНТ
По – вашему, я что, должна была все это в деталях рассказывать усталому менту в прокуренном кабинете? Я все-таки не полная идиотка. Конечно же, я сказала ему лишь десяток стандартных фраз, и он привычно заполнил несколько граф протокола. Как положено.
Затем, скрипнув стулом, поднялся, отошел в угол, нажал кнопку тут же зашипевшего электрочайника. Я поежилась – как только он отошел, мне показалось, что мертвецы, притаившиеся на стене, ожили и стали медленно приближаться, словно только и ждали, что я останусь одна в полумраке около потертого стола.
– Чай будешь? – спросил Мент из темного угла.
– А кофе нету?
Он потряс пустую жестянку, заглянул внутрь.
– Тебе на один раз хватит. Сладкий?
– Да. Спасибо…
От этих его слов и возни с чайником на секунду стало уютно и хорошо, но я заставила себя собраться. «Все менты – суки, независимо от страны и ситуации» – учил меня Антибренд. А ведь я в основном жила его мудростью, потому что своей у меня не было…
Мент поставил на стол две дымящихся чашки – щербатые и разнокалиберные, одну придвинул мне. Пачка «Кэмела» все еще лежала на столе, и я быстро стащила еще одну сигарету. На всякий случай. Иди знай, как все пойдет дальше… Мент тоже закурил, позвенел ложкой в чашке, откинулся на стуле и поднял на меня внимательные немигающие глаза.
«Сейчас начнется…» – подумала я, чувствуя, как по спине побежали противные мурашки. Меня еще ни разу в жизни не допрашивали, но я откуда – то знала, что это будет очень неприятно.
Но, вместо того, чтобы рявкнуть на меня, как полагается, Мент осторожно отхлебнул из чашки и тихо спросил:
– Наверное, в Москве поначалу трудно было?
ГОРОД
Трудно?!..
Нет, он все – таки странный, этот Мент. А может, не странный, а просто и сам приехал однажды в Москву из какой – нибудь Сызрани или Вологды и до сих пор носит в тайном кармане души ту смесь ужаса и восторга (ужаса, конечно, больше), которую пришлось тогда испытать.
Москва не удивила, не потрясла, не испугала, она…убила меня. Вернее, почти убила. Нет, даже не так – убила, но не насмерть. Пришибла, но не стала добивать, чтобы из любопытства посмотреть – шевельнусь я или начну остывать. Как будто на меня обрушился невероятных размеров телевизор, который, прежде, чем раздавить в лепешку, вихрем пронес через мое маленькое сознание циклопические серые громады зданий, бескрайнее море вечно стоящих машин – неистовое месиво из сияющих «Бентли», равнодушных «Мерседесов» и ржавых «Жигулей» – нескончаемую толпу людей с хмурыми и решительными лицами боксеров и тысячи ярких рекламных бигбордов, обещающих что – то безумное и не имеющее отношения к реальности.
Я не просто не видела раньше таких городов, как Москва. Я себе представить не могла, что они есть на свете. Марсиански-огромный, пульсирующий огнями и звуками, равнодушно-стремительный, мусорный и позолоченный, Город казался мне величественным страшным сном, голливудской фантазией на тему Конца Света. Было вообще невозможно представить себе, что люди здесь ходят за продуктами, назначают свидания, ездят в гости, забирают детей из садиков и школ… Москва, в которой я оказалась, не имела отношения к обычной человеческой жизни. А ведь я не была тупой провинциальной дурочкой, которая никогда не покидала родного городка. Папа брал меня на экскурсии в Киев и Львов, в прошлом году наш класс возили на неделю в Варшаву. Это были большие и красивые города, но они были похожи друг на друга. Прежде всего тем, что чувствовалось – они построены для того, чтобы в них жили люди. А Москва казалась мне огромным космическим танком, который хмуро и неумолимо двигался по ледяной слякоти. Причем двигался так давно, что его угрюмые обитатели давно забыли, куда он движется и зачем.