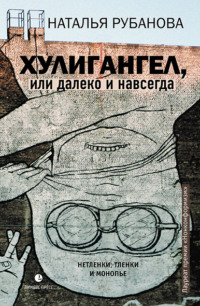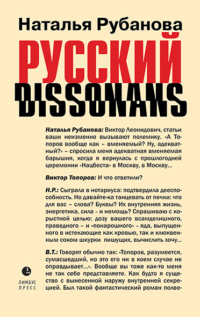Полная версия
Карлсон, танцующий фламенко. Неудобные сюжеты
Джим пригласил нас к столу: столом назывался ящик, служивший когда-то тарой марокканским апельсинам. Вместо стульев использовались точно такие же ящики, но для бананов и, видимо, распиленные. Китаец достал рисовую водку, огурцы и крабовые палочки. Джим крякнул от удовольствия – видимо, талантливые художники, неплохо копирующие Ци Байши в далёком российском лесу, всегда крякают от удовольствия при виде рисовой водки.
После третьей заговорили про гохуа[36] и традиционные каноны, а после пятой вышли к воде. Я мысленно просила реку раскрыть тайну её течения, но река молчала. Я вспомнила о Сиддхартхе и растрогалась – после рисовой водки я часто вспоминала Сиддхартху, да, впрочем, не только после рисовой! Стало грустно и я позволила себе прочесть то, что никогда раньше не позволяла – любимое стихотворение в жанре ци. И каково же было моё удивление, когда Джим на неизвестном мне инструменте заиграл ту самую мелодию «Ицзяннань»!
Я причесаласьИ спешу скорейОкинуть взглядом с башниДаль речную —Там всюду лодки,Только нет одной…Косой луч солнцаГаснет над волной,И отмель погрузиласьВ тьму ночную[37].– Оставь, – сказал после долгой паузы китаец. – Оставь.
– Кого? Что? – удивилась я.
Китаец смотрел на меня как на больного ребёнка и повторял «Оставь» как мантру, заглядывая в самую глубь. Я же долго-долго, как мне казалось, смотрела в самую глубь китайца, пока не поняла, что давно уже кричу на весь лес и бегу куда-то.
Картина была ещё та: так называемая Клеопатра, продирающаяся через ёлки-палки, а за ней – негр и китаец, тоже продирающиеся через ёлки-палки. Потом все устали и сникли. Джим, чтобы окончательно успокоиться, начал рассказывать об истоках спиричуэлса, плавно перейдя к своему первому «русскому» новому году:
– Я был в лесу, один. У меня была палатка «Зима» и две бутылки водки.
– Что такое палатка «Зима?» – спросила я.
– Обыкновенная, только тёплая и с трубой. В «Зиме» не холодно даже в минус двадцать.
Я поёжилась и, кажется, действительно оставила то, о чём говорил китаец час назад.
После той поездки я заболела, не могла ни говорить, ни ходить – мой китаец же отлично справлялся с ролью сиделки и носил меня на руках в туалет. Никогда в жизни ни один китаец не носил меня на руках в туалет и не смотрел так виновато:
– Это из-за меня! – говорил он, обматываю мою шею шарфом. – Нельзя после рисовой водки русской женщине лезть осенью в реку! Русская женщина, пусть даже Клеопатра, не может сочетать «Ицзяннань» и моржевание!
Я слабо хрипела и держала его за руку. В глазах плыло – во мне сидело все сорок; китаец поил мою оболочку горькими травами и аспирином.
Вскоре приехал Джим: увидев чёрную рожу, моя сорокоградусная кровь – да-да, именно такой порядок слов, всё прибито к больному месту как надо, – испугалась, но, вспомнив ящик из-под марокканских апельсинов в далёкой избушке, словно бы потянулась к нему. Я не представляла тогда более идеального цвета лица, нежели цвет лица Джима. А Джим улыбался… и я совсем уже его не боялась! Он указал на новый ящик с настоящими марокканскими апельсинами, а через несколько часов притащил кресло-кровать, на которое я благополучно перебралась. Джим приходил почти каждый вечер: рассказывал о спиричуэлсе и мурчал блюзы. Я же только моргала и кивала, питаясь исключительно сладкими апельсинами – никогда в жизни ни один негр не дарил мне столько сладких апельсинов! Я поняла, что не хочу видеть никого, кроме негра и китайца: я не бредила – я спала, наверное, несколько недель, пока однажды на кресло-кровать не присел Старик. От удивления я даже не шевельнулась, ну а он сказал:
– Ты живёшь неправильно. Ты не поправишься, если… – но исчез, не договорив.
«Что за чертовщина, – только и подумала я. – Что за чертовщина?»
Через сутки показалась Женщина в чём-то прозрачном и, покачав головой, произнесла:
– Ты не должна делать этого, иначе… – и тоже исчезла, не договорив, а я зажмурилась и выругалась.
На третью ночь увидела Мужчину. Он строго смотрел на меня, хмурился и многозначительно молчал, после чего вполне идиотично испарился.
На четвёртую прибежал дебиловатый Ребёнок с криком: «А король-то голый!» – и нагло растворился в воздухе.
Я начала думать, что погружаюсь в мрачное Бардо из «Тибетской книги мёртвых», которую мы читали с китайцем, и лишь крик: «А король-то голый!» вычеркнул из моих заумей остатки причинно-следственных связей. С трудом привстав, я взглянула на китайца: тот дремал. От страха мне захотелось дотронуться до него. Я коснулась его руки и вдруг поняла, что рука – ненастоящая. Я погладила эту ненастоящую руку, сбавив, если можно так выразиться, обороты ужаса: конечность очень напоминала резиновую, только была мягче. Я, кажется, закричала… а кто бы не закричал на моём месте? Китаец очнулся и вздохнул:
– Ну и что, что ненастоящая? Смотря что считать настоящим, – так объяснил он мне феномен своего тела. – Если бы не это «ненастоящее», ты свихнулась бы в своей квартирке. Да, ты ведь свихнулась бы, Клеопатра, признайся!
– А Джим тоже… такой? – робко спросила я.
– Нет, – китаец стал предельно серьёзен и через миг рассыпался на крошки. – Нет.
Я забралась под одеяло и вспомнила о голом короле, а потом незаметно для себя уснула, не веря в происходящее и почти поверив в то, что Земля стоит на трёх огромных черепахах.
Прошло сколько-то времени. Я почти успокоилась, спрятала веера, палочки, сандаловые шары… Но ключицы всё ещё болели. У меня всегда болели ключицы, когда кто-то внезапно исчезал – навсегда. Я хорошо знала эту боль: так было и сейчас. Мне не хватало китайца, пусть даже ненастоящего, пусть резинового, пусть игрушечного! Я не понимала, откуда он взялся и куда исчез. К тому же, с ним исчез и Джим – оставалось лишь сушить апельсиновые корки вместо их сове́ццкнутых сухарей.
Как-то вечером я возвращалась из социума домой. И не успела захлопнуться за социумом дверь, как в мою позвонили.
– Джим! Джим! – прыгала я от радости. – Джим! – я ничего не могла сказать, кроме этого: «Джим!», но в глубине души боялась дотронуться до его руки, вспоминая рассыпавшегося китайца.
Джим казался в тот вечер чернее обычного. Его кожаная куртка сливалась с цветом кожи, только белки глаз и губы намекали на пресловутый луч света из тридесятого царства. Я настолько устала от настоящего и ненастоящего, настолько задолбалась — «ихнее» словечко – инфляцией и отравилась социумом, что почти потеряла способность говорить членораздельно: так и повисла на шее негра, оказавшейся не резиновой, и я сказала Джиму об этом, а он рассмеялся:
– Клеопатра нездорова?
– Да, – кивнула «Клеопатра», а потом произнесла то, что хоть однажды произносит ещё живое существо, пытающееся найти собственную изначальную структуру, которой, вероятнее всего, не существует в природе: «Да! Нездорова! Увези меня отсюда, увези меня отсюда куда угодно, Джим, на край света! Это очень далеко? Пусть! Джим, ты знаешь, где край света?»
Я довольно долго несла всю эту вовсе не чушь: рефреном служило «не могу больше», а эпизоды кандального рондо не отличались разнообразием – се ля ви, но я действительно «не могла больше», а «меньше» – не получалось: происходила самая обычная интоксикация скукой на фоне ненайденной изначальной структуры, разбившейся чашки, несотворённого чуда и отсутствия как смысла, так и бессмыслицы. Не существовало абсолютно ничего, и даже «ноль» казался более реальным, нежели ощущение собственной телесности. И так каждый день. Каждый!
– Увези меня, Джим, куда угодно, только увези! Отсюда… – я не выла, а лишь тихонько скулила. – На край света, а, Джим? – я многозначительно поднимала глаза и спонтанно жестикулировала, пытаясь на пальцах объяснить, что отсюда давно пора сваливать. Джим улыбался всё меньше и чесал затылок: ему было искренне жаль мою нервную систему. Мне и самой было искренне жаль свою нервную систему – я не улыбалась вовсе и, как и Джим, машинально чесала затылок. Так мы чесали затылки, пародируя синхронизм, описанный швейцарским доктором.
Однажды Джим присвистнул и спросил, есть ли у меня не просроченный загранпаспорт. Я тоже присвистнула – откуда у меня не просроченный загранпаспорт? Мы оба присвистнули, но Джим подмигнул и сказал, что у его приятеля знакомый в ОВИР’е, и всё можно устроить – поехать, например, к маме и братьям Джима в Экваториальную Африку. Конечно, Экваториальная Африка – не край света, но там есть на что взглянуть. А вообще, лучше зарегистрироваться, пусть даже фиктивно – «Иначе потом могут появиться проблемы. Ты согласна?» Секунду я колебалась. Край света в моём понимании приходился всё-таки или на заброшенный уголок нашей необъятной мутерляндии или на менее заброшенный уголок не нашей, а более объятной евромутерляндии, но никак не на Экваториальную Африку.
– Это далеко? – выдохнула я.
– Какая разница, ты ведь сказала, что больше не можешь, – напомнил Джим.
– Да и правда, какая разница. Когда летим?
– Как только будут билеты, – усмехнулся Джим. – К тому же, надо успеть расписаться.
– Ты серьёзно? – я покрутила у виска.
– Что делать, – развёл руками Джим. – Ведь ты сказала, что больше не можешь, – так отрефре́нил он канда́льное моё рондо.
– Не могу, – прошептала я и пошла ставить чайник.
Так называемая новая жизнь не заставила себя долго ждать. Через пару недель мы обмывали мой новый девственный загранпаспорт с тем самым «приятелем из ОВИР’а» – втроём – в мерзком прокуренном баре недалеко от Театра Ермоловой. Приятель из ОВИР’а сказал, чтобы я купила побольше ситцевых платьев. Или сшила. По крайней мере, он думал, что всё это следует шить… наив!
– А сколько там в тени? – интересовалась я.
– Плюс пятьдесят. И ещё надо сделать прививки.
Приятель из ОВИР’а поглядывал на меня не без интереса – на меня, кинувшую как всех бреющихся, так и бородатых русских приматов! – это было очень смешно, и я сказала Джиму. Он тоже смеялся, но как-то не слишком весело – видимо, кое-что его тяготило.
Отношения наши оставались по-прежнему платоническими. Когда же наступало «время Ч» (опанньки!), я держалась за шею Джима и тихонько скулила – и вот тогда Джим мурчал «Колыбельную» Гершвина… В одну из таких клинических идиллий я сказала Джиму, что, должно быть, в Экваториальной Африке и есть на что взглянуть, но, может быть, у него имеются в наличии родственники где-нибудь ещё, где экватор не так близко к народу, и в тени хотя бы плюс тридцать пять… Джим задумался, а потом сказал: «Да».
Вскоре мы оказались в Тунисе – маленькой стране на севере Африканского континента, где жила троюродная сестра Джима и её многочисленная семья. В Тунисе я благоразумно меняла ситцевые сарафаны, добрым словом поминая чудо-юдо из ОВИР’а: он не наврал про тень и про апельсины, через которые перешагивала сестра Джима – очень высокая и очень сильная негритянка с проколотыми ноздрями. Чего и следовало ожидать, в Тунисе оказалось до чёртиков всех этих цитрусовых и проч.: фиников, олив. И – прочь! Мне всё чаще хотелось картошки и …китайца: я никак не могла поверить в его растворение и искала очертания желтолицего брата, даже рассматривая башню Халаф-аль-Фата. Умная сестра Джима уточнила, что это бывшая крепость-монастырь: в кельях жили монахи-воины, защищавшие мусульманские «святыни» от набегов «неверных». Сестра Джима много чего рассказывала… Джим же, слава Будде, не был мусульманином. Ха! Джим был просто неплохим парнем из Экваториальной Африки, который протусовался несколько лет в Вашингтоне, поступил зачем-то в аспирантуру московского вуза, заключил фиктивный брак с одной русскоговорящей особой и привёз эту особу «на край света», потому что она, видите ли, больше не может. Неплохо, да?
Я была благодарна Джиму, но через три недели заскулила: «Домой…» Джим снова погладил меня и замурчал «Колыбельную» Гершвина: так мы очутились в Москве, где чёрный мой человек напился водки, расплакался и признался в том, что и позабавило, и удивило, и озадачило меня:
– Понимаешь, всё, как у самца, только… – он мялся, а я ковыряла вилкой новую клеёнку. – Я найду деньги на операцию!
Я ничего не говорила, только слушала. Я не думала, что совершу когда-нибудь фиктивный брак с женщиной из Экваториальной Африки! С женщиной по имени Джим, с которой мы несколько раз целовались в Тунисе… М-да.
– А как называется… – я не могла сформулировать вопрос несмотря на любопытство к диагнозу.
Джим грустно усмехнулся:
– Гермафродитизм.
– Изначально все люди были гермафродитами, если ты читал… читала мифы, то… – начала я, но быстро осеклась.
Мы помолчали. Я удивлённо смотрела на существо так называемого третьего пола: оно совершенно не походило на женщину! Плюс два метра роста… Наверное, «женская» была anima, поэтому нам с Джимом так легко было вдвоём.
– Не плачь, – сказала я. – Мы найдём деньги. Искать деньги после Туниса стало сложнее. Я обречённо выходила в социум и однажды обмолвилась, что, может, и не нужна операция-то, ведь, типа, Джим знает моё отношение к мужчинам – и это его (её?), Джиммино, счастье, что он (она?) не как все, иначе едва ли я разрешила бы ему (ей) петь мне «Колыбельную» Гершвина… Кажется, Джим расстроился, а ещё сказал, что любит меня и некстати скоро защищает диссертацию. Я тоже где-то как-то любила Джима, но очень уж странною любовью. К тому же, мы были женаты – одним словом, чёрти что.
Иногда, глядя на новый замок, я вспоминала, как всё начиналось: перед глазами стоял Бо Вэн – сосед из квартиры без номера налево от лифта… В то золотое время я занималась поисками собственной изначальной структуры да слушала этюды Шопена под чёрное пиво. Теперь я читала мифы о гермафродитизме и успокаивала себя тем, что первые люди тоже были двуполы. «Ну, не люди, а титаны, какая разница?» – говорила я Джиму, а тот стеснялся и мычал, что всё будет хорошо. Соседи косились, ведь у меня периодически ночевал негр-почти-титан!
Постепенно Джим переехал ко мне. Он вёл себя тихо, мыл посуду и почитывал вечерами Юнга. Мы вроде бы собирали деньги на операцию, хотя мне, собственно, было не так важно – мужчина Джим или не очень: спать с ним не входило в мои планы, а если б и входило, то малосущественная интимная деталь не имела бы принципиального значения. И вот, через два месяца после его вселения мы впервые легли спать вместе. Во сне я забыла, что Джим не совсем мужчина и, как говорят иные дамы, всё у нас получилось. Я ущипнула себя, увидев ошарашенные экваториально-африканские глаза:
– Этого не может быть! – кричал радостно Джим. – Этого не может быть, я же импотент! Этого не может быть!
Тут до меня медленно начинало доходить, что Джим никакой не гермафродит.
– Ты великая женщина, Клеопатра! Вот уже несколько лет я не мог…
Я хохотала до слёз: мужику (ихненькое словечко) оказалось легче назваться бабой (из той же гоп-серии), нежели признаться в собственной «несостоятельности». Однако моя изначальная структура усиленно противилась новому ритму. К тому же, Джим ни с того ни с сего возгордился, и потому стал тяготить меня: через какое-то время, скрепя сердце, я решила развестись. И Джим всё понял. Он знал, что больше всего на свете я люблю этюды Шопена под чёрное пиво, и никакой спиричуэлс меня уже не спасёт.
Мы решили отметить развод в том самом «прекрасном далёко», куда приехали когда-то по осени с китайцем – в избушке. Взяли рисовую водку, лаваш, апельсины и тёплые вещи: летали уже белые мухи. Сели в электричку. Ехали долго, потом очень долго шли пешком. Джим выглядел немного растерянным, и тогда я сказала:
– Понимаешь, ты своего добился: защитил диссертацию и, так скажем, повысил потенцию. Ты делаешь неплохие копии Ци Байши, ты вообще неплохо многое делаешь. С тобой здорово. С тобой будет здорово любой женщине около-моего-плюс-минус-возраста. А мне нужна собственная изначальная структура. Хочешь, я познакомлю тебя с какой-нибудь классной девочкой? С классной, Джим! Её главной изначальной структурой будет твоя потенция. Хочешь, Джим? Девочку хочешь? А мальчика? Тоже нет?..
Джим улыбался и ничего не говорил: он привык к моим выпадам. Я вздохнула, замолчала, задумалась. Из какого материала была сделана рука китайца? Сколько прошло времени? Зачем действительно стрелялся Пушкин? Нужно ли переводить – для некоторых приматов – Набокова с русского на русский? Мы шли и шли, я замёрзла, и Джим дал отхлебнуть мне рисовой водки. Идти стало веселей: белые мухи кружились вокруг да около моей, спрятанной где-то очень далеко, изначальной структуры. Джим насвистывал спиричуэлс. Будто украденная, тишина вставала между нашими шагами и мыслями, обволакивая их. Когда же мы оказались у той самой избушки, где пили по осени рисовую водку за ящиком из-под марокканских апельсинов, то заметили Бо Вэна. Он остался почти таким же, только казался каким-то подтаявшим. Он смотрел на солнце – и в то же время на нас. Рядом с ним сидели Старик, Женщина, Мужчина и Ребёнок – мне казалось, что когда-то я видела их, но не могла вспомнить, где именно. Старик писал очередной свод дурацких законов, Женщина пыталась улыбаться, Мужчина адреналинил по поводу и без, а Ребёнок то дебиловато смеялся, то столь же дебиловато хныкал.
Мы с Джимом остановились, не решаясь войти в избушку, и в тот самый момент я поняла, что начинаю светиться (ничего себе, да? нагло так светиться внутри себя самой!), что во мне разливается такое количество теплоты, от которого раньше я просто взорвалась бы! Джим отошёл – слишком ярким показался ему тот свет. А мне стало жарко, потом горячо, потом – больно. Я разделась и ощутила беззащитно-голыми ступнями такой же беззащитно-голый снег.
– Наконец-то она вернулась, – сказал Ребёнок и засмеялся.
– Никуда я не возвращалась, я развод отмечаю, – слабо засопротивлялась я и позвала китайца: – Зачем ты тогда рассыпался? А? Зачем? Я готова была полюбить тебя по-настоящему, а ты испарился… как самая банальная иллюзия – испарился…
Вокруг закивали: «Да, да, это она!» Я ничего не понимала, китаец же молчал и смотрел не на меня. И чем дольше он молчал и смотрел не на меня, тем яснее вырисовывалась моя собственная изначальная структура. Я знала, что такое Тень, Любовь и Архетип. Я только не представляла, что являю собой Архетип Тени Любви и нахожусь в странной связи со всеми этими типами, существовавшими задолго до г-на Юнга – типами, не подозревавшими, что они и есть треклятое «коллективное бессознательное», адаптированное аккурат для домохозяек в спецкнижонки типа «Психоанализ за час с чайной ложкой», и ижица с ними.
– Ладно, пусть я – Тень. Даже архетипичная. А где тогда сама Любовь? – спросила я Великую Китайскую Стену.
– Спит Любочка, спит себе не одну тысячу… – ответила вместо Стены Женщина, и я заметила, что у неё два лица. К левому лбу была прибита табличка «Архетип Матери», к правому – «Anima»: стоит ли говорить, что я вспомнила про пыльный томик Карла Густава с раздражением?
– И сколько ещё она будет спать? И почему я – Тень? Это из-за неё я мучаюсь, что ли?! А ну, покажите-ка мне эту вашу Любочку!
Мужчина с прибитой ко лбу табличкой «Архетип Героя» строго посмотрел на меня и отчеканил:
– Сколько надо, столько и будет. Никого не спросила.
Ребёнок с клеймом «Архетип Дитя» захныкал, а Дед с татуировкой «Архетип Старика» шлёпнул его, после чего дитятко заорало на весь лес: о, как же я ненавижу крик киндерёнышей!.. Через какое-то время все эти архе-простигосподи-типы исчезли, и лишь китаец помаячил подольше: допивал рисовую водку. Он поздравил нас с разводом и угостил пейотами, но эффекта те не возымели – после рисовой нельзя пейоты, пейоты после рисовой неэффективны, хотя б это я знаю наверняка (не ешьте – и да не разочарованы будете). В какой-то момент стало на удивление легко и хорошо, однако внезапно все ощутили, как говорят в ихненьком социуме, напряг.
Что это был за напряг, я где-то как-то догадывалась, но не могла сформулировать – формулировал ведь только Карл Густав! И всё же, кажется, самой главной точкой пресловутого напряга являлась спящая Любочка. Кто не знает Любочку? Оказывается, никто не знает Любочку! Любочка спит себе не одну тысячу, а я – её тень… отбрасываю… по совместительству… Да я насквозь архетипична! Ой, мамочки, ой, не могу больше, ха-ха, вот ччёёрртт, Любочка спит, и всё ей по фигу, а я с негром и китайцем сижу непонятно где – закусываю рисовую водку пейотом, кто бы разбудил Любочку?!
Начали звать Майтрейю: Майтрейя не являлся. Начали звать г-на Юнга: г-н Юнг не являлся. Тогда начали звать всех подряд: все подряд приходили, но Любочку разбудить не могли. Тогда я позвала собственную изначальную структуру. Я предполагала, что её либо не существует, либо она не отзывается из вредности. Но тут она вдруг засуществовала и не свредничала – я увидела её на ладони: там сидела Любочка – та самая Любочка, что дрыхла не одну тысячу. Она была Дюймовочкой, она была – я, она была Любовь. Я тоже была Любовь, а ещё – её Тень… отбросы… безотходная технология из плоти и крови.
Я зажала миниатюрное чудовище в кулаке, но не сильно, чтобы кроха случайно не задохнулась и, улучив момент, когда Джим с Бо Вэном отвернулись, побежала в направлении города.
В квартиру я попала лишь под утро – включённое радио встречало одной из самых оптимистичных песенок «Крематория»:
Ведь мы живём для того,Чтобы завтра сдохнуть,Ла-ла-ла́, ла-ла-ла́, ла-ла-ла́…Я села на пол и замурчала в замедленном темпе соль-бемоль-мажорный, из 25-го опуса, этюд Шопена – больше всего на свете я любила его: даже больше, чем одну из самых оптимистичных песенок «Крематория»… Потом сняла с этажерки запылившийся портрет в овальной рамке и заглянула Шопену в глаза. Нет, определённо г-жа Дюдеван чего-то не понимала в них! И в его этюдах – под чёрное пиво и без.
…а хоронили с почестями: живому гению таких не полагается. Поговаривают, будто живой гений непременно должен страдать: только так шедевры на свете сером и появляются (не пострадаешь – в энциклопедии не окажешься). Я могла бы поспорить с умниками на примерах моего прадеда или Феликса Мендельсона: оба были богаты и талантливы. Однако мой прадед – это совсем другая история, а Мендельсона в гении не записали, признав лишь «невероятную одарённость» да разрешив пустой «Свадебный марш»…
Я подышала на стекло и снова посмотрела на Шопена: совершенно больной, он давал в Лондоне концерты и уроки. «Я же ни беспокоиться, ни радоваться уже не в состоянии: совсем перестал что-либо чувствовать – только прозябаю и жду, чтобы это поскорее закончилось», – читала я по глазам его письмо[38].
– Позвольте пригласить вас в гости, – я поднесла фотографию к губам и поцеловала.
Он долго отказывался, а потом неожиданно согласился.
Резкий в звонок в дверь. Два раза – очень коротко, остро. Дождь со снегом. Сердце Шопена намокло, изящные пальцы озябли, он с трудом стянул перчатки.
– Проходите, проходите же! Я жду вас больше, чем спала Любочка! – выпаливаю.
Шопен снял плащ и цилиндр:
– Так неужели к вам теперь никто не приходит?
– Никто.
– И вам не бывает одиноко?
– Отчего же… Но одиночество – как самое абсолютное состояние, так и самое относительное… И не имеет ничего общего с уединением.
– Пожалуй, вы правы, – он помолчал. – А как вы узнали мой адрес?
– Отправила «до востребования». Это ведь не сложно. Главное верить, что востребуется.
– Вы непонятная… странная… ломкая… вы похожи на мою последнюю мазурку[39], фа-минорную.
– Вчера мне сказали, что я похожа на Архетип Тени Любви.
– Как странно… Впрочем, не верьте! Не верьте никому, кроме себя самой! Самое ценное, что есть у вас – это вы. И не думайте, будто я повторяю прописную истину – в вас-то она пока не прописана!
– Иногда хочется, чтобы рядом кто-то ходил. Говорил. Не всегда, даже очень редко, но… – я закашлялась и отвернулась.
– Это ничего, это пройдёт, вы же женщина… Прежде всего – женщина, и не отпирайтесь, не отпирайтесь… Вы только не делайте, главное, противного вашей душе. Или пишите «до востребования» – нам тоже приносят почту… Правда, мне – только от вас. А у вас, признаться, очень красивые, выпуклые письма – даже не представлял о существовании подобных… И доброе сердце! Позвольте поцеловать вашу руку… Я благодарен вам за факт самого вашего существования… Даже за этюды, как вы пишите, «под чёрное пиво». Хотите, я сыграю вам?
Через мгновение половину моей комнаты уже занимал огромный концертный рояль. Шопен сказал:
– Помогите открыть крышку, – в тот же момент открылась крышка моей пыльной домовины. Я встала из гроба и огляделась: то, что называлось когда-то пафосным «жизнь», являлось её противоположностью.
– Фридерик! – только и смогла произнести я. – Фридерик!
Он тем временем начал свой первый, до-мажорный, этюд. Искристые пассажи напомнили мне золотые брызги забытого Совершенного Чувства – я обретала искомое.