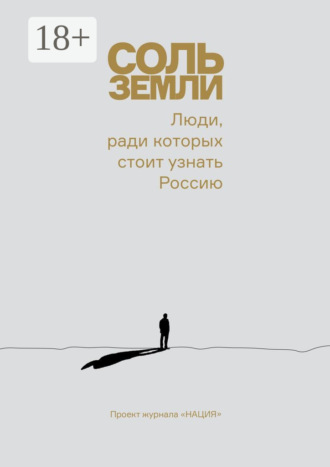
Полная версия
Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию
– Как получить собаку-поводыря?
– В России всего две школы, где их готовят. Обе в Москве. За собакой незрячий едет сам. Сначала пишешь заявление, можно по электронке, но мы этого не знали, поэтому поехали прямо в Москву подавать, всей семьей. Потом нужно ждать, обычно от полугода до года. Наконец тебе звонят: приезжайте за собакой. Две недели идет обучение, собака привыкает, дальше подписываешь договор – и все, забираешь ее домой. Я тогда не знал, что в эти две недели государство может оплатить тебе питание и проживание. Платил за все сам.
Спустя два года, как я Макса получил, мне позвонили из ФСС и сказали, что можно получить компенсацию. 24 тысячи рублей в год, единовременно. Многие незрячие говорят, что этого маловато. Но это смотря каким кормом кормить. Макс – крупный пес, весит 46 кг, обычно собаки помельче – 25—35 кг. В сутки псу весом 25 килограммов нужно 200 граммов корма, Максу – 400 граммов. Мешок корма в 25 кг стоит 3,5 тысячи рублей, нам его хватает на 2 месяца. Есть еще обязательные прививки плюс обработка от клещей. Получается, что нам с Максом этой суммы все-таки чуть-чуть не хватает. Но если собака весит 25 кг, то вполне нормально.
– Макс признает вас вожаком стаи? Кого вообще больше слушается?
– Больше – меня, конечно. Но если у жены в руках будет что-то вкусное, то он будет слушаться ее. И ему по барабану, что я там говорю. Лабрадоры за кусок мяса мать продадут. Надо лечь – ляжет, надо встать – встанет. Лишь бы дали что-то вкусное. Это вам не немецкая овчарка.
О ПОМОЩИ ДРУГИМ
– Вы же уже несколько лет дистанционно помогаете решать проблемы незрячим из разных городов.
– Ватсап-чат «Слепой дождь» появился в 2017 году. Cейчас в нем есть люди с Дальнего Востока, из Уфы, Кемерова, Краснодара, Воронежа – в общем, со всей России. Часто собираемся по конференц-связи пообщаться, старички называют это «домочат». Регулярно добавляются новенькие, которые хотят получить собаку; мы их по любым вопросам консультируем, начиная с того, как оформить документы в ФСС, и заканчивая какими-то бытовыми вещами. Как пользоваться тем или иным приложением для незрячих, например. Очень удобно, что сейчас телефон все озвучивает, я могу и буквами писать на клавиатуре, и речевым вводом пользуюсь. Гугл-карты помогают, когда мне нужно узнать телефон какой-то организации. Другие ребята активно используют навигатор. Но у меня собака знает дорогу, плюс я визуально помню, как пройти до вокзала, например.
Еще веду два чата знакомств для людей с ограниченными возможностями. Вообще я этого не планировал, просто позвонила подруга и попросила заняться чатом – он разваливался, участники уже начали друг друга оскорблять, а организаторы просто ушли. Я хотел все там уравновесить и тоже уйти. Но вот, задержался.
Создал «прихожку», где сидят админы и отсеивают неадекватных, их довольно много приходит: видео всякие непотребные скидывают, агрессию проявляют. Если человек нормальный, мы его добавляем. Один чат – для 18-45-летних, другой – 45+. Люди самые разные: слабовидящие, с проблемами опорно-двигательного аппарата, колясочники. Новый участник записывает видеоанкету, рассказывает, из какого он города, чем увлекается, кого ищет.
– Сложились ли уже какие-то пары?
– Да. Вот совсем недавно пара образовалась: он – тотально незрячий, она – колясочница. Ему 50 лет, ей 22. Долго общались, потом сказали, что они пара, и ушли из чата. Или вот еще. Парень слабовидящий, 42 года, она тотально незрячая, 44 года, с двумя детьми. Он из Тульской области, она из Подмосковья, он к ней поехал – и вот вместе живут уже три месяца, осенью хотят расписаться.
Ну, и еще одно наше детище, о котором хочется рассказать: в 2018 году мы в Ростове организовали клуб для незрячих «Золотой пес», где уже в реальной жизни, не онлайн, помогаем тем, у кого есть собаки-поводыри, или тем, кто только хочет получить такую собаку. Всего сейчас по Ростовской области 13 собак-поводырей.
– Совсем мало. А потребность какая?
– Этого я точно не знаю. Но только в одном Зимовниковском районе живет 300 незрячих. Я, когда пришел в местное общество слепых, задал им вопрос: «Почему вы не оповещаете людей о том, что можно взять собаку?» Потому что в Зимовниках я с собакой точно один. Не смогли мне ответить. Я раза три туда ходил, пытался контакт наладить. Они в итоге меня пригласили вступить в их общество, но я не стал. Что мне там делать? Они только книги электронные раздают, больше ничем не занимаются.
– Получается, незрячие просто не знают о том, что могут взять собаку?
– Да, но не только это. Кто-то просто не любит животных, или аллергия на шерсть, жилищные условия не позволяют. У нас частный дом, а кому-то с собакой в квартире неудобно. Или просто не хочется убирать за ней, гулять. Я знаю одного незрячего в Москве, он взял собаку, а через три года вернул назад, она стала не нужна. Говорит, что выучил свой маршрут. Идет из дома до метро, а потом из метро до работы по бордюрам. Гулять с собакой некогда, она начинает набирать вес и в таком состоянии уже плохо делает свою работу.
Но без собаки движение очень медленное, с тростью ты так быстро никогда не пройдешь. Если передо мной хорошо знакомый маршрут, я могу скомандовать Максу «бегом!» – и мы побежим. Побежим по-настоящему.
Автор Дарья Максимович / фото Светланы Ломакиной«Прекрасно отношусь к Башлачеву, Науменко, Летову, но Цой есть Цой»
Разговор с главным цоеведом страны в день рождения рок-звезды.
Виктор Цой, лидер группы «Кино», был человеком довольно закрытым. Трагическая гибель в ДТП в 1990 году лишь подстегнула интерес армии фанатов ко всему, что было связано с его жизнью.
После смерти о нем появилось множество мифов и легенд. Но каким Цой был на самом деле – в быту, на отдыхе, в любви? Как он относился к деньгам? Какие песни остались в виде черновиков? Чтобы ответить на эти вопросы, поклонник «Кино» из Чебоксар Виталий Калгин потратил 10 лет. Он буквально заново открыл рок-звезду миллионам поклонников.
Сегодня Калгин – известный писатель, журналист, общепризнанный «главный цоевед страны». Его материалы, например, использовались режиссером Серебренниковым при создании фильма «Лето». Хотя началась цоеведческая карьера у нашего героя точь-в-точь, как в расхожей шутке: «Буду книгу писать – читать нечего!»
– Вы сами успели побывать на концертах «Кино»?
– К моему великому сожалению, нет. В город, где я тогда жил, группа не приезжала, а сам я поехать на концерт в другой город еще не мог: мне было 9 лет, когда Виктор погиб.

С отцом Цоя, Робертом Максимовичем, на Богословском кладбище (Петербург), где похоронен музыкант.
– Как началась ваша цоеведческая история?
– Вообще все началось еще в 1988 году, когда я начал слушать «Кино» и увлекся собиранием материалов о Цое. Я довольно известный коллекционер по теме «Кино». А вот что касается книг… Я никогда не планировал их писать. Но так случилось, что в 2006 году вышла книга Александра Житинского «Цой форевер». И это было полное разочарование, которое я высказал лично Александру Николаевичу. Я долго переживал, потому что книга Житинского была совершенно не тем, чего все так ждали. И в конце концов родилась идея написать о Цое самому, благо материала у меня было в избытке. Нужно было лишь получить одобрение музыкантов «Кино» и родных Цоя. Что и было сделано. Меня привлекли в качестве консультанта документального фильма «Цой – «Кино», в 2010 году я встретился с «киношниками», показал уже готовый к тому времени текст книги и объяснил свою идею. И они одобрили. Собственно, вместо меня мог прийти любой другой ценитель творчества группы. Но пришел я. Потому что мне это нужно самому. «Кино» – моя жизнь.
Хотя я прекрасно отношусь и к Башлачеву, и к Науменко, и к Летову, и к прочим деятелям русского рока. Но Цой есть Цой. И поэтому уже десять лет я пишу на тему, которую лучше всего знаю и по которой у меня достаточно много материалов, и я хочу поделиться этим с людьми.
Из книги Виталия Калгина «ЖЗЛ. Виктор Цой» (издательство «Молодая гвардия»):
«Алексей Рыбин вспоминал, что название «Кино» родилось после того, как они с Цоем провели целый день за перебиранием всевозможных слов. Толкового на ум ничего не приходило (рассматривались даже «Ярило» и «Пионеры»). В итоге внимание ребят привлекла надпись «Кино» на крыше кинотеатра «Космонавт», и именно в тот момент уставший Цой произнес: «Хрен с ним, пусть будет «Кино». Во всяком случае, ничем не хуже, чем «Аквариум», решили Цой с Рыбиным».
– Сколько книг вы написали о «Кино»? И сколько интервью взяли для этого?
– Давайте вместе посчитаем, честно – никогда не считал. «Виктор Цой. ЖЗЛ», «Последний герой современного мифа», «Цой – жизнь и «Кино», «Звезда по имени Виктор Цой», «Группа крови», «Памятный альбом», «Памятный альбом. Черновики», «Виктор Цой. Последний год». Получается 8 книг. Переиздания не считаю. Сколько для этого провел интервью, не считал тем более. Точно – сотни.
Мои собеседники – и известные всей стране музыканты, и просто поклонники «Кино». Каждый человек, с кем пришлось встречаться, по-своему интересен. Но интереснее всего было с Георгием Гурьяновым (барабанщик «Кино», художник. – «Нация»). Это был замечательный человек, замечательный рассказчик. И мне его очень не хватает.
Из книги «Георгий Гурьянов: «Я и есть искусство» (издательство «АСТ»), одно из последних интервью Гурьянова, автор Виталий Калгин, осень 2012 года:
«Помните ли вы выступление в Доме кино в 1987 году? Когда в зале были разные знаменитости, в том числе Роберт Де Ниро». – «Конечно, очень хорошо помню. Это было немножко панк-выступление. Мы пели „Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти“, а в зале за столиками сидели такие нажравшиеся лоснящиеся насосы. Осетры, у которых явно времени осталось в обрез, денег до фига и в гости есть куда пойти. В этой ситуации песня звучала эпатажно».
– Самая главная оценка вашей работы – кем она была дана?
– Это, конечно же, мнения музыкантов «Кино» и родных Цоя. Озвучивать их сейчас я не стану, это все-таки личное. Скажу лишь, что все было достаточно тепло и одобрительно. Хотя… Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о том, как писал свои книги, где все расскажу и приведу все эти комментарии.
– Что из открывшихся фактов биографии Цоя удивило вас самого больше всего?
– Больше всего поразила мистичность Цоя, притом что совершенно не было повода и предпосылок к ранней смерти, – Цой постоянно говорил, что рок-музыканты до старости не доживают.
Из книги Виталия Калгина «ЖЗЛ. Виктор Цой»:
«Андрей Тропило (звукорежиссер, продюсер): «С Витей работать было трудно: он как прирожденный лидер редко следовал фонограмме и пел, как правило, выше, чем нужно. И еще он постоянно чмокал губами в микрофон. Мне даже приходилось покупать ему жирную гигиеническую помаду, чтобы этих причмокиваний не было слышно. Он тогда страшно увлекался Брюсом Ли, был на нем просто помешан. Например, когда записывались другие музыканты (для альбома «Ночь»), Витя прыгал и отрабатывал какие-то невообразимые удары ногами и руками. Приходилось уводить его оттуда к чертовой матери в коридор».
– Лет десять назад мы брали интервью у режиссера Рашида Нугманова – о фильме «Игла. Ремикс». Тогда как раз были популярны «марши несогласных», и Нугманов сказал нам, что Цой бы точно не участвовал в них («ни с кем не пошел бы маршем»). А что скажете вы?
– Если учесть тот факт, что вся группа «Кино» была совершенно аполитична и Цой не раз сам об этом говорил, то да, я поддержу мнение Нугманова.
Никто не знает точно, чем бы сегодня занимался Цой. Но я уверен в одном – это были бы вещи концептуальные, актуальные, модные. Не важно, музыка или картины, или кинематограф – Цой и сегодня был бы на высоте. Но не политика – это точно.
– Цоя много перепевают все эти годы. У кого получилось лучше всего, по вашему мнению?
– Совершенно не отслеживаю перепевки. Их действительно огромное количество. Хотя меня позабавило и тронуло проникновенное исполнение песен Цоя бурановскими бабушками.
Могу выделить из подражателей группы «Вторая серия», «Город», «Фильм», «Фойе», «Черный квадрат». Неплохо поет Земфира. Каждый по-своему поет. Но Цоя никому не спеть лучше него самого – это факт.
– А то, что «Кукушка» стала такой популярной (ее поют и детские хоры, и Полина Гагарина) и даже государственной песней, – что вы об этом думаете? Интересно, насколько высоко сам Цой ценил эту песню?
– Что касается «Кукушки»: насколько известно, Цой написал ее в одиночестве, и для него это было очень личным. И он довольно глубоко ушел в ее написание. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, как он сам оценивал свои последние песни. Хотя, по словам Наталии Разлоговой, Цоя очень удивляли эти песни с неизвестно откуда взявшейся темой прощания.
То, что сегодня «Кукушку» поет Гагарина… Ну, почему бы и нет? Пусть поет. Лишь бы не забывала, кто автор песни.
– Вы пойдете на концерт «Кино» без Цоя (впервые за 30 лет группа решила выступить вместе, голос Цоя будет в записи. Первоначально серия концертов должна была пройти осенью 2020 года, но была перенесена на весну 2021-го. – «Нация»). В Москве или Питере? И почему «киношники» решили снова выйти на сцену?
– Да, разумеется, обязательно пойду. Планирую и в Москве, и в Питере. А если повезет, то и в Риге с Минском. Что касается причины организации этих концертов… Думаю, пришла пора. Прошло 30 лет. Давно пора.
– Не самая изощренная музыка, не самые мудреные тексты («кровь – любовь», «звезда – беда»). Но почему именно Цой стал главной легендой нашей рок-музыки?
– В его песнях столько жизненной правды и энергии, что этого хватает, чтобы зацепить людей и сегодня. Еще при жизни Цой, по моему глубокому убеждению, вошел в пантеон неких светлых богов и ориентиров – вместе с Пушкиным, Гагариным. Было много разных групп и певцов, однако большинство из них сегодня слушает лишь узкий круг почитателей. Остальные даже забыли, кто это был. А Цой, как и прежде, гармоничная личность, которую слушает и гопник, и интеллектуал. Слушают потому, что каждый находит что-то свое. Феномен популярности Виктора Цоя и группы «Кино» в том, что они настоящие. В них нет ни лицемерия, ни фальши. Пели, как жили, и жили, как пели.
Из книги Виталия Калгина «ЖЗЛ. Виктор Цой»:
«Валентина Васильевна Цой, мама: «Однажды Юра Каспарян сказал мне, что Витя был великий шаман, который управлял тысячами людей с помощью силы, которой он владел. Виктор был очень сильной натурой. Я как-то спросила у него: «Ты же сам простой, а люди по тебе с ума сходят, почему?» Он молчит. Я спрашиваю: «Как дела-то хоть у тебя?» Он говорит: «Хорошо». Спрашиваю: «Вить, а трудно быть таким?» Ответил: «Очень трудно».
Автор Андрей Бережной / фото из архива героя«Идешь по лесополосе и видишь: дачники выбросили кости солдата»
Разговор с ростовским поисковиком Андреем Кудряковым.
«Пропал без вести» – такие похоронки сотнями тысяч разлетались по стране во время Великой Отечественной войны. Что ж, говорят, такова простая и жестокая цена победы. Только есть упрямые, кто с этим не согласен. Уже 20 лет ростовское объединение «Миус-фронт» ищет пропавших бойцов войны и возвращает им имена. Руководитель ростовских поисковиков Андрей Кудряков объяснил «Нации», что заставляет их делать это.
– Конец 1990-х. Мы, бывшие офицеры российской армии, прошедшие Афганистан и горячие точки Кавказа, поехали на Миус-фронт (оборонительный рубеж вермахта на берегу реки Миус, созданный в декабре 1941 года. – «Нация»). Узнали о нем от товарища нашего, историка Владимира Афанасенко. О боях этих вообще-то молчали или говорили шепотом, потому что огромнейшие потери были допущены там нашим командованием. Более 100 тысяч только пропавших без вести!
…В начале октября 1941-го немецкие танки так стремительно вышли на Таганрог, что девочки, работающие на почте, звонили на ростовский почтамт: «У нас тут немцы ходят под окнами!» Над ними смеялись из Ростова: «Да не выдумывайте, вы чего там, отмечаете что-то?» – «Нет-нет, настоящие немцы!» Стали докладывать выше, о броске этом никто не знал – ни в штабе Южного фронта, ни в обкоме. Немцы всего в 100 км от Ростова! И первыми эти танки встретили курсанты ростовских военных училищ, 17-летние мальчишки. Многие были даже без оружия или, в лучшем случае, с учебными винтовками… За несколько часов формировали маршевые роты и бросали сразу в бой. Вербовали даже милиционеров: «Револьвер есть? Езжай». А в револьвере – 6 патронов.

Руководитель ростовских поисковиков Андрей Кудряков (справа)
Многие понимали, что шансы остаться в живых ничтожны. Ветеран 248-й дивизии рассказывал нам: выжил, мол, я один из взвода, а завтра снова бой, смотришь на новобранцев, которых вечером привели, и ясно же, что из этих пацанов не останется никого. И вот выберешь кого-нибудь, кого больше всех жалко, и стараешься хотя бы ему помочь. Говоришь: «Я бегу – и ты беги, я упал – и ты падай».
Там, в октябре 1941-го, на Миусе сражалась и 339-я стрелковая дивизия. Она одна из первых встретила немцев и попала в окружение. Конечно, там почти все полегли, практически вся дивизия – 6 тысяч человек. И тем не менее впервые с 1939 года немецкая армия остановилась. До этого они все время хоть 5 километров в день, но продвигались, а здесь впервые встали на месяц. Такое было сопротивление. Все бились до последнего. Немцы говорили: «Под Ростовом мало пленных, очень мало. Одни убитые. Никто не сдается…» Армия Германии к такому не привыкла.
И вот приезжаем мы и видим не монументы и памятники, а то, что прямо на поле белеют кости погибших солдат. И хотя у многих в Ростове или области кто-то погиб при Миусе, для местных жителей такая страшная картина – просто часть пейзажа. Были и более жуткие вещи: на даче люди копают землю, найдут кости и вместе с мусором выкинут. Идешь по лесополосе и видишь – дачники выбросили солдата. Для нас это было непостижимо.
И мы тогда дали себе слово, что каждый свободный миг будем заниматься поиском и возвращением с войны наших предков. «Своих на войне не бросаем» – это стало нашим девизом, эти слова написаны на флаге и шевроне нашей поисковой организации «Миус-фронт».
В Ростове есть улица имени 339-й стрелковой дивизии, той самой, с Миус-фронта, но кто и что стоит за этим названием, знают буквально единицы. И это другая часть нашей работы – просветительская. Я люблю приходить в школы, общаться с детьми, узнавать их взгляды на исторические события. Многие сегодня путаются в элементарных понятиях. Очень популярна версия, что Сталин с Гитлером договорились где-то в тайном месте и Вторую мировую войну устроили в своих интересах. Это прямо тренд. Встречается даже такое: Сталин, он же агрессор был, хотел подчинить себе весь мир и напал первым, а Гитлер только защищался. Ну, и роль Америки в войне просто огромная. Только когда американцы вмешались, удалось закончить войну. Вот такие искажения истории в мозгах. И тут помогает лишь спокойный разговор и личные истории.
Школьники часто просятся в наши поисковые отряды. И я считаю, что это очень благородное дело. Недавно в одной закрытой воинской части подходит ко мне молодой офицер, красавец, орденские планки на груди: «Вы меня не помните?» Я не признал. Он: «Ну как же, я пацаном тогда был». И я вспомнил: правда, в начале 2000-х крутился с нами пацан из неблагополучной семьи. Часто с нами ездил, а мы ведь в 5 утра выезжаем, ни разу не опоздал. И в итоге в такого парня вырос: офицер спецподразделения, участник антитеррористических операций.
Раскопки – сильный фактор в плане воспитания. Тот, кто видит своими глазами неприступные немецкие укрепления Миуса, а они были построены специалистами по последнему слову фортификационного искусства, но все же были взяты, кто находит солдата, который пролежал почти 80 лет, зарос травой, но он до последнего бился за Родину, тот переоценивает и свою жизнь.
У меня есть и своя, личная, война. Мой дед по материнской линии, с которым я рос и имел счастье общаться, был танкистом 51-й армии. Он не очень любил рассказывать о боях, так, обрывки воспоминаний. Начал воевать еще в Финскую кампанию, есть прекрасная фотография, которую он прислал домой: вместо погон – петлицы с танками, красиво. Он говорил: «Видишь, как я тут улыбаюсь, мы тогда с друзьями пошли, выпили пива, сделали парадные снимки… А через пять дней я горел в танке, и тех друзей уже просто не было».
Но война – это не только смерть и трагедия. Это еще жизнь и любовь. Именно в моей семье сложилось так, что в самой страшной битве в истории человечества – Сталинградской – дедушка познакомился со своей будущей женой, моей бабушкой. Она была медсестрой, 17-летняя девчонка, доброволец. Дежурила, когда он привез своих раненых. Он требовал, чтобы их не бросили, был мороз, продержат на морозе – все, не спасти. И он бегал, пистолетом размахивал: срочно! Она сказала: я присмотрю за ними, не переживайте. Потом он ее нашел, начался роман… Они договорились, что свадьбу сыграют после войны – если выживут. Шансы у них были минимальные: в Сталинградской битве жизнь танкиста – два дня, жизнь медсестры – три. Это сухая статистика… Но им повезло.
А второй мой дедушка – офицер политуправления Черноморского флота, друг и соратник Цезаря Куникова, нашего прославленного морского пехотинца. Дед командовал морским полуэкипажем при обороне Москвы, а когда враг был отброшен от столицы, попросился к Куникову, в самое пекло, тот под Ростовом воевал. Его перевели, и он участвовал в дерзких рейдах, это зима была 1942 года – тогда диверсионные группы Куникова придумали такой ход: они, по 10—15 человек, на коньках пролетали замерзший Таганрогский залив и так заходили в тыл противнику.
Его жена, моя бабушка, тоже пережила чудовищную трагедию – блокаду в Ленинграде. Она из огромной семьи, 18 человек их было. И уцелели из семьи только двое: младшая дочка (моя бабушка), ее, почти прозрачную, вывезли по Дороге жизни, и ее старшая сестра, она воевала в лыжном диверсионном батальоне.
Поэтому для меня история войны – это история моей семьи.
В поисковики приходят совершенно разные люди – и управляющие банков, и водители маршруток. И на раскопках у нас нет «генералов» и «солдат», нет какого-то социального или интеллектуального разделения; историк, которые книги о войне читает на других языках, и человек, который за всю жизнь ни одной книги не прочел, – все наравне. И всех объединяет одно – личная история: у кого-то дедушка пропал без вести, у другого кто-то воевал здесь. А личные истории – это и есть правда о войне.
Когда выкапываешь солдата, обращаешь внимание на разные-разные детали, которые могут пролить свет на его личность. И кропотливо работаешь с каждым предметом. Ведь что такое армия? Все одеты одинаково. Пояса, котелки, каски – все одинаковое. И чтобы не перепутать, ты свое подписываешь. Вот по этим подписям прежде всего узнаешь, где кто. Но попался нам как-то котелок, где было шесть фамилий. Это почему так – погибал товарищ, и в память о нем вещи делились между друзьями. И вот – шесть фамилий. То есть котелок шесть раз менял владельца, и все они погибли.
Идентифицировать можно и по наградам – каждая имеет свой номер, мы так многих опознали. Именно так и определили первого найденного мной лично бойца. Его звали Щеточкин Александр Иванович, он был политруком, погиб в рукопашной схватке в немецком окопе в июле 1943 года. Хотя в 43-м, во время прорыва Миус-фронта, медали и ордена давали очень редко. Надо было совершить прямо неординарный подвиг. Последнего парня, узбека по национальности, мы тоже нашли по медали «За отвагу». Саберджани Игамбирдиев, 1922 года рождения, в ходе одного боя под Сталинградом вытащил из-под огня 16 своих раненых товарищей-курсантов, а сам при этом был ранен. Мы нашли его в стрелковой ячейке: лежал в ней и отстреливался до последнего патрона. Видимо, прикрывал отход своих. Немцы его гранатами закидали. Очень хочется найти его родственников, поэтому не хороним. Но пока никак не можем их разыскать. Может, с вашей помощью найдем?
Чаще всего родственники бойца хотят похоронить его там, откуда он уходил, – рядом с мамой, рядом с супругой, которая ждала его всю жизнь. Это наша народная традиция. И думать о нас как об иванах, родства не помнящих, вообще неправильно. Всякий раз, когда мы находим родственников, они говорят: конечно, помним, знаем о нем, это же наш прадедушка, вот его фотокарточка. Ну, да, он у нас пропал без вести. Приезжают, забирают останки, хоронят. За какой бы границей сейчас ни жили. Когда начались конфликты с Украиной, мы ни разу не потеряли связь с тамошними поисковиками. Если находим бойца с Украины, передаем им. И они так же поступают.

