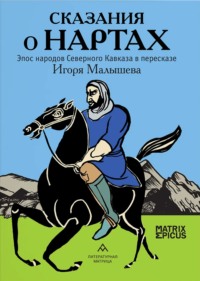Полная версия
Театральная сказка

Игорь Александрович Малышев
Театральная сказка
© Малышев И., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
© Iaroslava Daragan, RITUPARNO MAITY, Anastasiya Oleynik, ArtMari, LHF Graphics / Shutterstock.com
С благодарностью Юлии Селивановой, Павлу Крусанову, Елене Шубиной, Анне Золотарёвой, Нино Рота, Илье Мазо, группе «Полифония», «Muse», «Moby».
Пролог 1
Нашу историю мы, пожалуй, начнём с упоминания того факта, что весной 20… года в самом центре Москвы, в Репинском сквере, стали проходить одиночные пикеты. Пикетчики старались держаться друг от друга подальше, чтобы правоохранительные органы не заподозрили их в проведении массового мероприятия и никаких претензий к ним у полиции не возникало. Люди самых разных возрастов, политических взглядов, финансовой обеспеченности и культурного уровня держали в руках плакаты, призывающие полицию и спецслужбы немедленно найти и самым суровым образом покарать вандалов, нанёсших повреждения одной из статуй скульптурной группы, носящей название «Дети – жертвы пороков взрослых».
Если кто-то не видел этого памятника, хотя назвать это произведение искусства памятником можно весьма условно, я попробую описать его. Он представляет собой довольно большие, метров двух-трёх в высоту, чёрные фигуры тринадцати пороков (наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лжеучёность, равнодушие, пропаганда насилия, садизм, беспамятство, эксплуатация детского труда, нищета, война). Перед пороками (или правильнее будет назвать их демонами?) стоят двое отлитых из золотистого металла детей с завязанными глазами.
Причиной появления пикетов стало то, что накануне двое неизвестных попытались среди ночи отпилить аккумуляторными болгарками голову центральной фигуре скульптурной композиции – самой высокой и единственной, стоящей на возвышении, – равнодушию. По задумке скульптора Михаила Шемякина этот порок является отцом и матерью всех остальных пороков, поскольку они существуют исключительно благодаря ему.
Злоумышленники не успели закончить своё варварское дело, их спугнула охрана. Порок сохранил голову на плечах, а неизвестные, перемахнув через ограду сквера, скрылись в путанице строек, которыми всегда богата наша столица.
И вот теперь пикетчики стояли, кто дальше, а кто ближе к скульптурам, и держали в руках листки с надписями «Нет вандализму!», «Найти и наказать варваров!», «Не позволим резать по живому!», «Защитим московские памятники!» и так далее и тому подобное.
Подъехала команда Общественного Московского Телевидения. Достали камеры, подключили микрофоны.
– Скажите, почему вы пришли сюда? – спросила девушка-корреспондент с покрасневшим от мороза носиком.
– Потому что мы неравнодушные люди, – ответил мужчина с седой бородкой-эспаньолкой. – Мы пришли защитить Москву от отморозков, которым безразлична культура. Я не знаю, что им не нравится конкретно – этот памятник или, может, они питают персональную ненависть к Шемякину, но в любом случае это очень опасный симптом. Если подобные вещи не пресекать, мы скатимся в полную дикость…
– Так мы до состояния пещерных людей дойдём! – поддержала его широколицая красногубая женщина. – Безобразие! Мы требуем от полиции защитить нашу столицу от дикарей.
– И ещё, – добавил мужчина с эспаньолкой, указывая пальцем в камеру. – Мы собираемся дежурить здесь круглосуточно, и никаких актов вандализма здесь больше не произойдёт, это мы гарантируем. А что касается преступников… Они будут наказаны в самое ближайшее время, и я знаю это совершенно точно. Больше мне нечего вам сказать.
Пролог 2
– Идея!
– Хвастайся.
Ветка – темноволосая, подвижная одиннадцатилетняя девочка, похожая на зверька, вроде горностая или ласки, хлопнула в ладоши и горячо зашептала:
– Почему мы до сих пор не попытались открыть…
– Дверь, которая ведёт на сцену! – перебил её Мыш, худощавый подросток с длинной чёлкой, ровесник Ветки.
– Именно! – сверкнула глазами девочка. – Служебную.
Мыш спрыгнул с подоконника и отправился в комнату, где стоял сундук, заполненный ключами самых разных форм и размеров.
Вдвоём они загрузили четыре тяжеленные сумки, спотыкаясь, принесли их к закрытой двери, ведущей за кулисы.
Главный вход в зрительный зал Альберт, режиссёр, после каждого спектакля аккуратно закрывал изнутри доской, вставляя её во вбитые в косяки скобы. Единственной дверью туда, которая открывалась снаружи, была вот эта, что вела на сцену. Небольшая, но мощная, крепко сбитая, со вспузырившейся многослойной краской, она монолитом отделяла коридор от сцены и тёмного зала.
Один за другим Мыш принялся перебирать ключи, пробуя провернуть их в широком сквозном отверстии древнего сувальдного[1] замка. Мальчик хмурился и вздыхал, стоя коленками на жёстком вытертом паркете.
Влево от двери уходил коридор, на стенах которого висели портреты актёров – детей и взрослых, игравших когда-то в Театре Юного Зрителя. Одни портреты были большими, словно оконные рамы, другие чуть крупнее почтовой открытки. Справа от Мыша располагалась стена, заклеенная вырезками из театральных газет, за его спиной уходили вверх и в полумрак десяток ступеней, укрытых полысевшей ковровой дорожкой.
В коридоре под потолком, то разгораясь, то ослабевая, светили лампочки. Электричество в театре вело себя непредсказуемо. Лампочки то и дело вспыхивали, заливая пространство ярким, почти обжигающим глаза светом, но по большей части трудились вполнакала. Ветка сидела рядом с Мышом и сонно следила за его манипуляциями.
– Боюсь, это надолго, – сказала она, зевая.
Девочка принесла из гримёрки груду реквизитной одежды, улеглась.
– Жёстко на голом полу сидеть, – пояснила она.
Мыш положил под коленки ветхий зипун[2] и вернулся к замочной скважине. Глухо и глубоко, словно бы из-под воды, донеслись три удара из часовой комнаты.
– Три часа ночи, – вздохнув, сказал Мыш. – Разгар «собачьей вахты».
Рядом сопела и видела первый сон Ветка. Пальцы её чуть вздрагивали, глаза двигались под веками. Мыш укрыл её шкурой непонятного зверя.
Из широкой щели под дверью потянуло сыростью, какая бывает в лесу после дождя или возле большой воды.
Мыш принюхался, повернулся к Ветке, намереваясь спросить, чувствует ли она запах, но не решился будить её.
Он приблизил лицо к похожему на птицу отверстию замка и всмотрелся в темноту.
Лучше всего можно подготовить глаза к темноте, если закрыть их. Он зажмурился, сосредоточился на слухе.
Было так тихо, что он слышал, как звенят вольфрамовые нити в лампочках.
С той стороны двери послышался едва различимый шорох. Потом ещё один, донельзя тихий, словно две божьих коровки соприкоснулись лапками.
Мыш перестал дышать и приложил ухо к замку. Тишина. И вдруг, что-то тонко и ощутимо дотронулось до него. Он едва не вскрикнул и отпрянул. Из замочной скважины торчала белая травинка. Или, быть может, нитка, толстый волос? Послышался приглушённый рык, а потом ворчание крупного зверя. Совсем рядом, прямо за дверью. Мыш внезапно понял, что это не травинка, не нитка и не волосок, а ус какого-то крупного хищника – тигра, льва, рыси…
Мальчик оторопел. В жизни он успел повидать всякое, но ничего более пугающего с ним ещё не происходило.
– Рысь? – подумал он. – Что за бред? Откуда ей взяться? Может, из зоопарка сбежала? Но тогда как она попала в запертый зрительный зал?
В широкую щель меж полом и дверью с трудом протиснулся край огромной кошачьей лапы, серо-рыжей, с чёрными пятнами и мощными, как крючья, жёлто-янтарными когтями.
Мыш схватил непослушной рукой плечо спящей девочки.
Та подняла голову и, разлепив глаза, успела увидеть, как звериная лапа, скрежетнув когтями по паркету, исчезла под дверью.
На истёртых планках паркета белели царапины. Изнутри зала раздалось глухое рычание, и всё стихло.
Мыш осторожно взял с пола щепку, вывернутую когтями неведомого гостя, и непонимающе посмотрел на Ветку.
Первая встреча
Альберт шёл за ним уже полчаса. Он всё понял о нём, едва лишь увидел в толпе у Курского вокзала. Теперь просто хотел убедиться.
Остекленевший взгляд. Движения, как у сломанной куклы. Одежда хорошая, брендовая, но мятая и потасканная. На лице грязные разводы, под ногтями чёрные полумесяцы.
Мальчик, прихрамывая, шагал сквозь толпу. И хромал он не потому, что у него что-то болело. Скорее потому, что в жизни его случилось нечто такое, что перемололо его, а потом собрало заново. Но при сборке какие-то детали были то ли не туда поставлены, то ли безнадёжно утеряны, и оттого вся анатомия мальчика больше походила на небрежно сколоченную конструкцию, плохо приспособленную и для ходьбы, и для жизни вообще.
Люди задевали его, врезались, на ходу извинялись и бежали дальше. А он шёл с глазами пустыми, похожими на пробки от хрустальных графинов. И, странное дело, люди не спешили занять тот коридор в толпе, который оставался после него. Будто боялись испачкаться или прикоснуться к чему-то чужеродному.
Мальчик направлялся в сторону Яузы. Альберт двигался следом, то теряя, то находя его в потоке торопящихся москвичей, их сумок, рюкзаков, чемоданов на колёсиках…
И вот когда Альберт в очередной раз потерял его, а потом отыскал заново, оказалось, что мальчик пересекает Садовое кольцо.
– Чёртов ребёнок! – выругался вполголоса Альберт.
Был полдень, яркий, осенний, чуть морозный. На асфальте виднелись островки льда. Машины бежали резво, словно радуясь солнцу, морозу, своей силе и скорости.
Мальчик пересекал шоссе, раз за разом каким-то чудом успевая прошмыгнуть в зазоры между машинами. Альберт застыл на бордюре. Все качалось перед его глазами. В ушах заранее стоял звон разбитых стёкол, автомобильные гудки и крики, которые, он был уверен, сейчас последуют. Но ничего страшного не произошло. Ребёнок пересёк одну полосу, другую. Постоял на двойной сплошной и, все той же разболтанной сломанной походкой, продолжил движение в гуще металлических зверей, каждый из которых мог одним движением убить его.
Альберт зажмурился и когда снова открыл глаза, мальчик уже шагал по другой стороне Земляного Вала. Режиссёр кинулся к ближайшему подземному переходу…
Он был почти уверен, что больше не отыщет мальчика, но глупое упрямство заставляло его, грузного, краснолицего, похожего в расхлябанных ботинках и широкополом плаще на черепаху Тортиллу в исполнении Рины Зелёной, торопиться изо всех сил. Зонт с ручкой-крючком, который он держал под мышкой, цеплял прохожих.
– Осторожнее нельзя? – неслись ему вслед недовольные возгласы.
– Идите к псам, – не оборачиваясь, цедил он сквозь зубы.
Альберт бежал и высматривал мальчика.
Набережная Яузы пустовала. Рядом нёсся плотный поток машин, но тротуар вдоль реки был совершенно безлюден. Ребёнок, балансируя, стоял на тумбе над рекой и смотрел на противоположный берег, будто высматривая что-то, хотя там виднелись лишь всё те же скучные дома и вереницы блестящих машин.
Яуза несла палые листья, похожие на ладони машущих из-под воды детей.
Альберт медленно подошёл к нему. Встал за спиной. Смотреть на ребёнка было тяжело из-за бьющего в глаза солнца. Он казался со всех сторон пронзённым солнечными лучами, словно святой Себастьян – стрелами.
– Парень! – задыхаясь, хрипло позвал Альберт и приставил руку ко лбу, защищаясь от солнца.
Тот вздрогнул, покачнулся.
Для себя Альберт уже решил, что, если ребёнок бросится в реку, он последует за ним и попытается спасти, хотя и плохо представлял себе, как сможет это сделать. Человеком он был довольно сильным, но пловцом никудышным. Да и вообще всё, связанное с движением, а особенно с быстрым движением, давалось ему с трудом. На всякий случай он снял плащ, кинул на газон рядом с собой. Туда же положил зонт.
– Мальчик… Ты… Послушай… – повторил он, пытаясь успокоить колотящееся сердце. – Я твой друг. Не бойся меня, пожалуйста.
В горле у него клокотало, тембр, как он сам понимал, был не очень располагающий, но делать было нечего.
Ребёнок не поворачивался и не отзывался.
– Знаешь… Я режиссёр. У меня есть свой театр, – сказал Альберт, растягивая слова. – Давай, я расскажу тебе о нём. Ты пока там постой, а я расскажу. Да, у меня свой театр, самый настоящий. С окнами на Кремль, представляешь?…
Он говорил медленно, долго, зная, что главное – не останавливаться, и оборвал свой монолог только тогда, когда ребёнок повернулся к нему и сказал:
– Хорошо, я согласен играть в вашем театре.
Альберт кивнул, выдохнул и опустился на плащ.
Мальчик спрыгнул с тумбы.
– Отлично. Ты не пожалеешь, – заверил режиссёр, глядя на него глазами печального мопса.
Когда, отдуваясь и копошась, Альберт принялся подниматься, мальчик подал ему руку, помогая встать.
– Как тебя зовут? – спросил режиссёр, вытирая платком пот с лица.
– Мышкин.
Мальчик откинул с лица длинную русую чёлку.
– Что, вот прямо так и зовут, Мышкин?
– Ещё Мышом называют.
– Хорошая фамилия. Достоевскому бы понравилась, – пошутил Альберт.
– Я читал «Идиота».
Режиссёр рыкнул, прочищая горло, и с удивлением посмотрел на своего спутника. Тот шёл, сосредоточенно глядя перед собой, и даже походка его изменилась, стала собранней, прямее.
– Да ты вундеркинд, я смотрю. И что, он тебе понравился? «Идиот», я имею в виду.
– Трудный текст, – серьёзно ответил тот. – Но скорее да, понравился.
Альберт хотел бы услышать ещё что-нибудь, но собеседник молчал. Мальчика сложно было назвать общительным. «Какой он… Застёгнутый на все пуговицы».
Режиссёр похлопал себя по карманам, достал трубку, закурил.
– Не возражаешь? – спросил он Мыша, но скорее для проформы.
Тот качнул головой:
– Нет. У меня отец курил.
– А где ты живёшь, если не секрет? – спросил Альберт, делая короткие тяги и раскуривая трубку.
– Неважно, – ответил мальчик. – Я больше не вернусь туда, что бы ни случилось.
– Куда, к отцу? Ты сбежал из дому? – почти уважительно протянул режиссёр.
Мальчик некоторое время отмалчивался, потом медленно выговорил:
– Давайте договоримся, что это был последний личный вопрос, который вы мне задали.
– Как скажешь, – усмехаясь, согласился Альберт. – Не подумай чего… Я просто хотел узнать, будешь ли ты приходить на спектакли и репетиции из дома или же станешь жить в театре.
– А я могу жить в вашем театре?
В голосе ребёнка впервые послышалась какая-то эмоция. Это была растерянность и неверие в свалившееся счастье.
– Можешь. Правда, там нет кровати, но мы что-нибудь придумаем.
Мыш засунул руки поглубже в карманы и, не отрывая взгляда от дороги, сказал:
– Меня это устраивает.
После чего снова «застегнулся».
Альберт кивнул.
– Вон там метро, – указал он. – Поворачиваем.
– Я без денег, – коротко бросил мальчик.
– Ничего. У меня есть карта. Вот, «Тройка». Там ещё с десяток поездок.
– Нет. Не хочу быть вам обузой.
– Можешь не переживать, одна поездка на метро меня не разорит.
– До какой станции нам ехать?
– До «Площади Революции», но можно и до «Александровского сада».
– «Площадь Революции» – красивое название… – мальчик задумался, формулируя. – Многослойное.
Альберт поглядел на ребёнка почти с гордостью: «Точно вундеркинд».
– Но всё-таки давайте пройдёмся пешком, – настоял Мыш, кутаясь в шкиперское пальтецо.
«С характером», – отметил Альберт.
От Яузы они двинулись по Садовому кольцу в сторону Таганки. Альберт ничего не говорил, ему было интересно, сколько сможет молчать этот мальчик. Оказалось, что молчать мальчик может довольно долго.
– Какой спектакль будем ставить? – спросил Мыш минут через двадцать, когда они шли по Большому Краснохолмскому мосту через Москву-реку.
– «Ганц и Гретель».
– Это же сказка для малышей!
– Ну, во-первых, у нас Театр Юного Зрителя. А во-вторых, чтоб я больше этого не слышал – «сказка для малышей»… Это спектакль для всех возрастов. Его одинаково интересно смотреть и взрослым, и детям. Что б ты знал, дело вообще не в том, какую пьесу ты играешь – взрослую, детскую, а в том, как ты играешь. В искусстве, в любом, «как» всегда важнее «что».
Он помолчал, изучая пуговицы на своём размахаистом одеянии, и добавил:
– Хотя, если разобраться, дело даже и не в этом. Тебе предстоит многое узнать. Что-то я смогу объяснить, а в чём-то тебе придётся разобраться самому, без моей помощи…
На Якиманке Альберт почувствовал, как ноют его не привыкшие к длинным прогулкам ноги.
– Может, всё-таки на метро? – снова предложил он, но увидев упрямство в глазах мальчика, не стал настаивать.
В районе Болотной набережной он решительно заявил:
– Всё. Антракт. Давай присядем, иначе я без ног останусь.
Слева от них лежал Репинский сквер.
– Да пошло оно всё к псам…
Режиссёр, не церемонясь, переступил через крошечную оградку и прямо по газону пошёл к ближайшей лавке.
– Оххх… – с наслаждением вытянул он короткие ноги и откинулся на спинку.
Искоса взглянув на мальчика, достал обтянутую кожей фляжку и, не спрашивая на этот раз позволения, сделал глоток.
Сквозь редеющую жёлтую листву кустов и деревьев виднелись тёмные скульптуры.
– Это памятник. Называется «Дети – жертвы пороков взрослых», – пояснил Альберт, заметив, что мальчик пристально смотрит в ту сторону. – Фигуры пороков – «Наркомания», «Воровство», «Садизм», «Проституция», другие… Всего тринадцать штук. Я слышал, – в голосе его послышалось сомнение, – некоторые приходят туда молиться тому пороку, которому служат. Воры, проститутки, нищие… Представляешь? И это не единственное такое место в Москве. Я недавно был на Ваганьковском кладбище и занесло меня к могиле, хотя правильнее сказать, к кенотафу – ложной могиле, Соньки Золотой Ручки. Так там весь памятник исписан! «Соня, научи, как жить», «Соня, научи воровать»… Невероятно. Я глазам своим не поверил… Сколько идиотов на свете.
– Никогда там не был, – оборвал его Мыш.
– Ты вообще москвич? – осторожно спросил режиссёр, сгибая и разгибая гудящие ноги.
– Москвич, – коротко ответил ребёнок. – Но я просил не задавать личных вопросов.
– Ладно, ладно. Как скажешь, – охотно согласился Альберт. – Ну что, пойдём? Тут недалеко осталось.
Знакомство с театром
Они остановились перед небольшой, очень старой дверью дома на Раушской набережной. Невдалеке виднелся похожий на стоящего на четырёх мощных лапах ящера Большой Москворецкий мост. За ним вставал Кремль со звёздами на башнях, вишнёво отсвечивающими в лучах солнца.
Донёсся звон – били куранты.
Альберт сунул руку в карман бежевого, запачканного землёй и травой плаща, достал большой кованый ключ с резной бородкой и хитрой узорчатой ручкой. Вставил в замок и, хмурясь, стал пытаться открыть дверь.
– Вечно тут проблемы, – пробурчал он.
Прямо над головой режиссёра на прочной цепи висел фонарь, выкованный, как и ключ, мощно и узорчато.
Справа от входа висел старинный почтовый ящик с двуглавым орлом, рядом виднелось полукруглое, наглухо закрытое фанерой окошко.
– Касса, – пояснил Альберт. – Я тут продаю билеты.
По другую сторону от двери Мыш увидел застеклённую изрядно выгоревшую афишу: «Ганц и Гретель. Спектакль, переживший века. Для взрослых и детей. Сегодня и всегда». В кармане с датой и временем виднелась бумажка с надписью «Спектакли временно отменяются».
Поверх афиши висело объявление. «Требуются актёры. Мальчик и девочка 10–12 лет. Стучите в дверь. Громко».
– Мальчика надо будет вычеркнуть, – заметил Альберт.
– А если я вам не подойду? – хмуро спросил Мыш. – Такое ведь может быть?
– Тогда я тебе оторву голову и выброшу в Москву-реку. Шутка. Должен подойти.
Замок наконец поддался, и тяжёлая дверь на удивление легко и бесшумно распахнулась. За ней обнаружился небольшой, но довольно уютный вестибюль с каменными колоннами. Стены вестибюля украшали фотографии и старые афиши в рамах.
– Так, смотри, это вход в зал, – режиссёр указал на широкие, покрытые резьбой двери. – Обычно он будет закрыт. Я открываю его только перед спектаклями.
Они повернули направо.
– Там у нас гардероб, там лестница на балкон, – Альберт по-хозяйски уверенно кивнул в разные стороны. – Зал у нас маленький, всего на сто мест, но очень классный. Я потом покажу его. Тебе понравится, будь уверен.
Они прошли коридорами, на стенах которых висели портреты, афиши, маски: и совершенно жуткие, шаманские, и вполне симпатичные, с венецианских карнавалов и маскарадов времён Екатерины Второй.
– За этой стеной зрительный зал, – Альберт мимоходом тронул стену слева от себя. – Эта дверь ведёт на сцену, за кулисы. «Служебная», как я её называю. Она только для актёров. Обычно тоже закрыта. Я открываю её перед репетициями, ну и спектаклями, само собой.
По стенам к выключателям и по потолку к лампам тянулись перевитые провода, насаженные на фарфоровые шишечки. Выглядело всё таким старым, словно сделано было как минимум лет сто назад.
– Скажите, а кто эти люди? – указал Мыш на портреты.
– Работники театра, режиссёры, актёры…
– А я тоже тут буду висеть? – поинтересовался Мыш. – Если подойду, конечно.
– Ты подойдёшь.
От служебного входа они повернули направо, поднялись на полтора десятка ступеней и зашагали по новым коридорам. Повернули раз, потом другой.
– Здесь можно заблудиться, – коротко отметил мальчик.
– Ничего, привыкнешь. На первых порах можешь носить в кармане хлебные крошки.
По дороге им встретилось множество крепко и, похоже, давно запертых дверей самых удивительных форм и размеров.
Одни были настолько маленькие, что войти туда могла разве что кошка. Попадались большие, под потолок, а он тут был немаленький, метра три или четыре в высоту. Были двери, крест-накрест заколоченные, с замочной скважиной, забитой деревянным штырём. Имелись кривые, с косяками, наклонёнными под изрядным углом к полу.
– Ты прав, театр очень сложно устроен, – пояснял на ходу Альберт. – Даже я не уверен, вполне ли знаю его. А я, заметь, всю жизнь тут провёл. Дело в том, что в течение многих веков к нашему зданию пристраивались другие дома. Их покупали владельцы театра, пробивали в стенах новые двери, строили новые стены и перегородки, и это невероятно запутало план здания. Тут есть бывшие лабазы, конюшни и даже тюрьма, тоже бывшая, конечно. Есть подвалы – совершенно великолепные, выходы на крышу…
– А это наша часовая… – Альберт ввёл его в небольшую, но очень высокую комнату. – Здесь ты и будешь жить.
Вид комнаты был настолько необычен, что заслуживает отдельного описания.
Три из четырёх стен до самого потолка, а он находился метрах в семи над полом, были заняты книжными полками. В одной из стен, правой, если смотреть от входа, почти под самым потолком виднелось обрамлённое книжными полками широкое окно, сквозь которое проникало достаточно света, чтобы можно было не зажигать электричества. Справа, возле самого входа, стояло пианино с истёртыми углами и потрескавшимся лаком.
– Зато звук у него почти идеальный, – с гордостью произнёс Альберт. – Вот, послушай.
Он открыл крышку, легко пробежался по клавишам.
– Мм, каково? Как раз вчера настройщик приходил. Долго восторгался. Прекрасная работа, – добавил он, и Мыш не понял, относится это к настройщику или же к инструменту.
Сразу за пианино стоял на мощных львиных лапах столик-бюро, со множеством выдвижных ящичков и надстроечек.
– Знающие люди говорят, век семнадцатый-восемнадцатый.
За столиком возвышалась доходящая чуть не до самого окна античная мраморная статуя. Голову бога (а это, судя по всему, был бог) украшал венок из виноградных листьев, плечи укрывала шкура с когтистыми лапами, в руках он держал чашу и тучную гроздь винограда.
– Вот, Мыш, смотри. Это Дионис, наш покровитель. Бог театра, а также… – он сделал многозначительную паузу и продолжил: – Вина и безумия. Да…
Мальчик вгляделся в красивое тонкое лицо статуи. Казалось, по нему пробегают искры, точно по снегу в солнечный день.
Стену против входа занавешивала ткань, падающая с потолка на пол тяжёлыми плавными волнами.
– Знаешь, что это? – спросил Альберт.
– Гардина?
Режиссёр засмеялся.
– Ха-ха, гардина. Ну, в каком-то смысле, да. Многослойная ткань, шёлк, шерсть… Но дело не в ткани. Перед тобой первый занавес МХАТа. Самый первый. Его заказал в ткацких мастерских Ключникова сам Немирович-Данченко! Настоящее сокровище. Прикоснись к истории театра.
Мальчик тронул ткань.