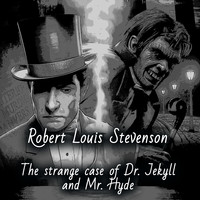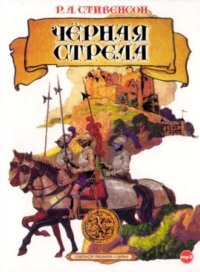Полная версия
Ночлег Франсуа Вийона
– Вот дьявол! – выругался поэт. – Они еще и не ложились! Наверное, какой-нибудь школяр или святоша-богомолец, чтоб им… Неужели нельзя напиться в хлам, рухнуть в постель, и храпеть, как все в округе! Зачем тогда нужен вечерний звон, которым объявляют, что нужно гасить все огни, зачем тогда стараются бедняги звонари, которые, как черти, раскачиваются на веревках, на своих колокольнях? Зачем тогда нужен день, если работают по ночам? Ладно, пусть им будет хуже! – Он усмехнулся, сообразив, куда его завела логика. – В конце концов, каждый занимается тем, чем хочет. – И добавил: – Если они не спят, по воле божьей, тогда я самым честным образом напрошусь к ним на ужин, и так обведу дьявола вокруг пальца.
Решительно подойдя к двери, Вийон громко постучал. Два предыдущих раза он делал это робко, опасаясь привлечь к себе внимание. Однако сейчас, когда мысль о том, чтобы проникнуть в дом со взломом была им отброшена, постучать в дверь, не таясь, показалось ему действием простым и невинным. Удары разнеслись по дому и глухо отозвались в глубине, словно там было пусто; но не успели они затихнуть вдали, как послышалась чья-то мерная, неторопливо приближавшаяся поступь, затем звук снятых запоров, и одна половина двери широко распахнулась. Перед Вийоном предстал высокий, худощавый и мускулистый мужчина, впрочем, слегка согбенный. У него была крупная, но прекрасной лепки голова; нос – широкий у основания, но с тонкой переносицей, переходящей в высокие брови аристократа; рот и глаза окружала сеточка морщин; густая седая борода была аккуратно пострижена квадратом. В неярком свете фонаря, который мужчина держал в руке, он выглядел, возможно, благороднее, чем являлся таковым на самом деле; но лицо его было прекрасно, лицо человека почтенного – честного, умного и властного.
– Вы весьма сильно припозднились, сэр, – вежливо произнес старик звучным голосом.
Сжавшись, Вийон принялся подобострастно извиняться; в таких случаях в нем брал верх попрошайка, а гений сникал в смущении.
– Вы замерзли, – продолжил старик, – и наверняка голодны. Что ж, входите. – Он пригласил его в дом величественным жестом.
«Какой-то знатный господин», – подумал Вийон, в то время как хозяин, поставив фонарь на плиточный пол, вернул запоры на свое место.
– Надеюсь, вы не против, если я пойду впереди, – произнес хозяин, закончив запирать дверь, провел поэта наверх, в большой зал, который обогревала жаровня с древесным углем, а освещала огромная люстра. Мебели почти не было, только буфет, в котором виднелась золотая посуда, несколько старинных фолиантов, а еще витрина с оружием в простенке между окнами. Стены были затянуты двумя гобеленами тонкой работы: на одном изображалась сцена распятия Христа, на другом – пастухи и пастушки отдыхали возле ручья. Над камином висел родовой герб.
– Устраивайтесь, – предложил старик, – и извините за то, что мне придется вас оставить. Этой ночью я в доме один, и если вам хочется перекусить, то мне нужно подать все самому.
Стоило хозяину выйти за дверь, как Вийон вскочил со стула, на который только что опустился, и начал обследовать помещение воистину с кошачьей сноровкой и интересом. Он взвесил в руках золотые графины, перелистал все фолианты, внимательно рассмотрел герб, ощупал обивку на стульях. Подняв занавеси на окнах, увидел, что вместо стекол там цветные витражи с изображением военных сюжетов. Затем, остановившись посреди залы, он сделал глубокий вдох, задержал дыхание и, надув щеки, огляделся, крутясь на каблуках, словно хотел отложить в памяти каждую деталь убранства.
– Семь предметов из сервиза, – пробормотал Вийон. – Было бы десять, тогда я бы рискнул. Прекрасный дом, чудесный старик, черт побери!
Услышав шаги хозяина в коридоре, он метнулся к стулу и со скромным видом принялся греть у жаровни промокшие ноги.
Вошел его благодетель, держа в одной руке блюдо с мясом, а в другой – кувшин вина. Опустив блюдо на стол, жестом предложил Вийону придвинуться к столу, а сам отошел к буфету, из которого достал два кубка и наполнил вином.
– Я пью за вашу удачу, – серьезно заявил он, чокнувшись с кубком Вийона.
– А я за то, чтобы нам лучше узнать друг друга, – осмелел поэт.
Простолюдин испытал бы благоговение перед вежливостью старого господина, но только не Вийон; ему уже доводилось развлекать сильных мира сего, поэтому он считал их такими же отъявленными жуликами, как и самого себя. И поэт принялся за еду с удовольствием сильно изголодавшегося, в то время как старик, откинувшись на спинку стула, стал разглядывать его с откровенным и спокойным любопытством.
– У вас кровь на плече, мой поздний гость, – вдруг сказал он.
Должно быть, Монтиньи положил на него свою окровавленную ладонь, когда он уходил из домика. Поэт мысленно проклял мерзавца.
– Не я пролил кровь, – запинаясь, ответил он.
– Я так и подумал, – тихо заметил хозяин. – Драка?
– Что-то в этом роде, – немного поколебавшись, согласился Вийон.
– Наверное, убили беднягу?
– Нет, не убили. – Поэт приходил во все большее смущение. – Там все было по-честному – убийство по неосторожности. Я в этом не участвовал, разрази меня господь! – наконец, признался он.
– Одним негодяем меньше, осмелюсь предположить, – заявил хозяин дома.
– У вас есть полное на это право, – согласился Вийон с видимым облегчением. – Он был большой негодяй, настолько большой, насколько велико расстояние отсюда до Иерусалима. Умер, задрав конечности, как овца. Все равно, смотреть на это было противно. Осмелюсь предположить, что вы видели много мертвецов в своей жизни, мой господин? – добавил он, бросив взгляд на выставленное оружие.
– Много, – сказал старик. – Я участвовал в нескольких войнах, представьте себе.
Вийон отложил вилку с ножом, за которые только что взялся и спросил:
– Были среди них лысые?
– О, да. И такие же седые, как я.
– Не думаю, что меня так уж заботят седые, – заметил Вийон. – Тот был рыжий. – Его снова затрясло, и чтобы не разразиться истерическим смехом, он сделал большой глоток вина. – Мне слегка не по себе, когда я вспоминаю про это, – продолжил он. – Проклятье, я хорошо знал его!
– У вас есть деньги? – спросил старик.
– Одна серебряная монетка, – ответил поэт со смехом. – Я вытащил ее из чулка у замерзшей девки, там, в портике заброшенного особняка. Она была мертва и холодна, как храм в стужу, с обрывком ленты в волосах. Мир становится ужасен зимой для волков, потаскух и бродяг, как я.
– Я Энгерран де ла Фейе, сеньор де Бризетуа, байи дю Пататрак, – сказал старик. – А вы кто?
Вийон поднялся, отвесил низкий поклон и представился:
– Мое имя – Франсуа Вийон. Бедный магистр искусств из местного университета. Немного владею латынью и знаком со множеством пороков. Могу писать песни, баллады, поэмы в стихах – большие и маленькие, рондо и так далее, и имею большую склонность к вину. Я родился на чердаке, а умру, должно быть, на виселице. Стоит добавить, мой сеньор, что начиная с этой ночи – я ваш покорный слуга.
– Вы мне не слуга, – отрезал старый рыцарь. – Вы – мой гость на эту ночь, и не более того.
– И очень благодарный гость, – вежливо заметил Вийон.
– Вы умны, – начал старик и легонько постучал себя по лбу. – Очень умны. Вы образованный, грамотный человек, однако, забрали мелочь у мертвой женщины на улице. Разве это не воровство?
– Такое воровство очень часто практикуется во время войн, мой сеньор.
– Поле брани – это поле благородства, – возразил старик с гордостью. – Там человек жертвует своей жизнью; он сражается за своего короля, во имя Господа, во имя всех его святых и ангелов.
– Представим, – сказал Вийон, – что я действительно вор, разве в таком случае мне не приходиться рисковать своей жизнью, и рисковать намного серьезнее?
– Ради выгоды, а не чести!
– Выгоды? – пожал плечами Вийон. – Выгода! Бедняга хочет поесть, и добывает себе еду. Так же поступает солдат во время военной кампании. А что такое все эти реквизиции, о которых мы так наслышаны? Если это и не выгода для тех, кто их проводит, то уж точно потери для другой стороны. Солдаты наливаются вином, расположившись у огня, а в это время горожанин ломает голову над тем, как обеспечить их питьем и дровами. По всей стране я видел крестьян, повешенных на деревьях; о, однажды их было человек тридцать на одном вязе – прискорбное зрелище! А когда я поинтересовался, почему они там очутились, мне объяснили, что бедняги все вместе не смогли наскрести достаточное количество крон, которое бы устроило военных.
– Такие вещи неизбежны во время войны, и люди низкого рода должны переносить их со стойкостью. Это правда, что некоторые командиры могут перегибать палку. В армии есть люди, не знающие жалости, кроме того, некоторые из них – настоящие разбойники.
– Выходит, – сказал поэт, – что вы не можете отделить солдат от разбойников; а вор – это всего лишь разбойник-одиночка, который ведет себя более осмотрительно. Я стащу пару бараньих отбивных, причем, не потревожив спящих. Крестьянин, конечно, поворчит, но, тем не менее, с удовольствием поужинает тем, что у него осталось. А вы приходите в грохоте победных труб, забираете всю овцу целиком, да в придачу еще благочестиво лупите крестьянина до потери сознания. У меня нет ни труб, ни барабанов; я всего лишь бродяга и мерзавец, и, скажу честно, оказаться на виселице – не самая плохая участь для меня. Но вы поинтересуйтесь у бедного крестьянина, кого из нас он предпочтет, и кого из нас он будет проклинать, что есть сил, в бессонные холодные ночи.
– Сравните себя и меня, – предложил хозяин дома. – Я хоть и стар, но полон сил и уважаем. Если завтра мне выпадет оказаться на улице, то сотни людей будут испытывать гордость, приютив меня. Бедняки с готовностью проведут ночь на улице вместе со своими детьми, если я только намекну, что хочу остаться в их доме один. А вы? Скитаетесь по улицам, не зная, где преклонить голову, по пути обираете мертвую женщину! Я не боюсь людей, меня ничто не пугает; вы же начинаете дрожать и бледнеть от одного лишь моего слова. В своем собственном доме я умиротворенный жду, когда Господь призовет меня, или король, если ему так будет угодно, вновь позовет меня принять участие на поле битвы. А вы того и гляди закончите жизнь на виселице, пакостной, насильственной смертью без надежды или почета. Разве между нами нет разницы?
– Такая же, как между солнцем и луной, – согласился Вийон. – Но если бы я был рожден повелителем Бризетуа, а вы были бы бедным школяром Франсуа, не была бы такой же большой разница между нами? Разве это не я грел бы мои колени у жаровни, а вы в это время ковырялись в снегу в поисках жалкой монетки? Разве это не я был бы рыцарем, а вы – вором?
– Вором? – воскликнул старик. – Я – и вор! Если бы вы понимали, о чем говорите, вы бы об этом пожалели.
Вийон развел руками с неподражаемой наглостью.
– Если бы, ваша светлость, смогли бы оказать честь выслушать мои аргументы!
– Я оказал огромную честь, согласившись на ваше присутствие, – сказал старый воин. – Научитесь сдерживать свой язык в разговоре с людьми чести и преклонного возраста, иначе кто-нибудь более проворный, чем я, вынесет вам порицание в очень жесткой форме. – Поднявшись, он отошел в дальний конец комнаты, весь кипя от гнева и отвращения. Украдкой вновь наполнив свой бокал, Вийон с еще большим комфортом устроился на стуле, скрестил ноги и, подперев щеку рукой, положил локоть на спинку стула. Он наелся и согрелся; и ничуть не боялся старика, дав ему совершенно правильную оценку, при всей разнице между их такими несходными характерами. Ночь почти закончилась, проведенная им с таким удобством, и у него не было никаких сомнений, что утром он выйдет из этого дома целым и невредимым.
– Скажите мне вот что. – Хозяин перестал ходить из угла в угол. – Вы действительно вор?
– Напоминаю вам о священном праве гостеприимства, – ответил поэт. – Да, мой сеньор, я – вор.
– Но вы еще так молоды, – не останавливался старик.
– Я бы не дожил до этого возраста, – ответил Вийон и вытянул вперед пальцы, – если бы не ловкость вот этих десяти моих помощников. Они были мне кормящей матерью и кормильцем-отцом.
– Вы ведь еще можете раскаяться и измениться.
– Я каюсь каждый день, – сказал поэт. – Мало кто из людей раскаивается больше, чем бедный Франсуа. А что касается изменений, тогда пусть кто-нибудь изменит условия моей жизни. Человеку нужно что-то есть, чтобы иметь возможность продолжать каяться.
– Все изменения начинаются в сердце, – торжественно проговорил старик.
– Мой дорогой сеньор, вы в самом деле считаете, что я ворую ради удовольствия? – приподнял брови Вийон. – Мне ненавистно воровство, как и любой другой вид трудовой деятельности, а эта, к тому же, еще и опасна. При виде виселицы, у меня зубы начинают выбивать дробь. Но я должен что-то есть и пить, вращаться в обществе определенного сорта. Какого дьявола! Человек ведь животное стадное, он не живет уединенно. Как говорится, Cui Deus faeminam tradit[2]. Дайте мне место королевского духовника – назначьте меня аббатом Сен-Дени; назначьте меня байи Пататрака; и тогда я изменюсь обязательно. Но пока вы оставляете меня тем, кем я являюсь – нищим школяром Франсуа Вийоном, без единого фартинга в кармане, я, конечно, останусь самим собой.
– Милость божья не имеет границ.
– Я стал бы еретиком, если бы усомнился бы в этом, – сказал Вийон. – Это Он сделал вас повелителем Бризетуа и байи Пататрака; а я получил от Него лишь умную голову, которую венчает шляпа, да вот эти десять пальцев на руках. Вы позволите, я еще налью себе вина? Благодарствуйте! По милости божьей, у вас вино прекрасного урожая.
Заложив руки за спину, сеньор Бризетуа расхаживал по комнате. Возможно, ему было трудно совместить в уме параллель между ворами и солдатами; возможно, Вийон заинтересовал его, и он испытывал к нему что-то вроде симпатии; возможно, он просто не мог уяснить для себя что-то; но в чем бы ни заключалась причина, старику почему-то захотелось наставить молодого человека на путь истинный, поэтому он был не готов прямо сейчас вновь выгнать его на улицу.
– Тут есть нечто большее, чего мне не дано понять, – наконец, сказал старик. – Ваша речь полна изысканностей, и дьявол уводит вас далеко в сторону; однако дьявол всего лишь немощный дух перед лицом правды Господа, и всякая утонченность рассыпается в прах от единого слова Его истины, как исчезает тьма при наступлении утра. Выслушайте меня еще раз. С давних пор для меня непреложным стало то, что благородный человек должен жить по-рыцарски, поклоняться своему Богу и королю; преклоняться перед своей дамой сердца; и хотя за свою жизнь мне довелось увидеть многое, что казалось неправедным, я все равно старался руководствоваться этими правилами. Об этом не только написано во всех рыцарских романах, но и в сердце любого человека. Вы говорите о еде и вине, и мне прекрасно известно, насколько невыносимо чувство голода; но при этом вы ни разу не упомянули о других потребностях – вы ничего не сказали о чести, о вере в Бога и о доверии к людям; о правилах вежливости, о любви без упреков. Возможно, я не слишком умен – хотя так мне не кажется – тем не менее, вы производите впечатление человека, который сбился с пути и допустил огромную ошибку. Вы отдаетесь мелким желаниям и полностью забываете, что существуют великие, по-настоящему важные цели. Это все равно что заниматься лечением зубной боли, в то время как наступил Судный день. Честь, любовь и вера не только выше еды и питья, но и, как мне кажется, мы желаем их больше, и сильнее страдаем от их отсутствия. Я говорю об этом с вами, потому что считаю, что вы легко поймете меня. Неужели когда вы набиваете брюхо до отказа, то не обращаете внимания на то, что ваше сердце испытывает голод иного рода? И не это ли портит вам удовольствие от жизни, вызывая чувство непреходящего несчастья?
Вийон был уязвлен до глубины души всеми этими проповедями.
– Вы считаете, что у меня нет чувства чести! – воскликнул он. – Я бедняк, видит бог! Невыносимо смотреть, как богатый идет в перчатках, а мне приходится дышать на руки, чтобы согреть. И пустой желудок – ощущение очень тяжелое, хоть вы и говорите об этом так легкомысленно. Если бы вам пришлось голодать столько, сколько доводилось мне, возможно, вы запели иначе. Как ни крути, я вор, – но я не исчадие ада, разрази меня господь! К вашему сведению, у меня есть свои понятия о чести, такие же высокие, как и у вас, хотя я не талдычу об этом целыми днями, как о каком-то чуде господнем. Для меня это совершенно естественно; и я держу это при себе до какого-то определенного момента. Теперь подумайте вот о чем – сколько времени я провел с вами в этой комнате? Разве вы не сказали, что в доме, кроме вас, больше никого нет? Взгляните на вашу золотую посуду! Вы, конечно, человек сильный, если угодно, но старый и без оружия, а у меня есть кинжал. И вздумай я: одно короткое движение, и вы получили бы холодную сталь в живот. И потом ищите меня сколько угодно по всему городу, нагруженного золотыми кубками. Вы полагаете, что мне не хватило ума сообразить это? Но для меня такой поступок неприемлем. Вот они ваши кубки по-прежнему в такой же сохранности, как в церкви, а это вы стоите тут, целый и невредимый, а это – я, готовый уйти отсюда таким же бедным, каким и вошел сюда, с одной мелкой монеткой, которой вы меня попрекаете! Можете и дальше думать, что у меня нет понятия о чести, разрази меня господь!
Старик вытянул вперед правую руку:
– Я вам скажу, кто вы такой. Вы – мерзавец, любезнейший, наглый, беззастенчивый мерзавец! И бродяга, к тому же. Я провел в вашем обществе час. О, поверьте, у меня такое чувство, будто я себя опозорил! Вы ели и пили за моим столом. Но теперь я сыт по горло вашим присутствием. День настал, и ночной птице пора вернуться в свое гнездо. Вы пойдете впереди меня или за мной?
– Да как вам угодно, – поднимаясь из-за стола, ответил поэт. – Не сомневаюсь в вашем благородстве. – Задумчиво допил вино. – Хотелось бы, чтобы можно было добавить, что вы в своем уме. – Он постучал себя костяшками пальцев по голове. – Но годы, знаете ли! Ведь годы берут свое. Мозги размягчаются и перестают соображать.
Старик пошел впереди, демонстрируя уважение к себе; за ним проследовал Вийон, насвистывая, и засунув большие пальцы за пояс.
– Господь сжалится над вами, – сказал повелитель Бризетуа, дойдя до дверей.
– До свидания, папаша, – зевнув, откликнулся Вийон. – Премного благодарен за холодную баранину.
Дверь за ним захлопнулась. Рассвет уже озарил белые крыши. Промозглое, недоброе утро предвещало такой же день. Стоя посреди улицы, Вийон с наслаждением потянулся. и подумал: «Весьма занудный старикан. Интересно, а сколько стоят его золотые кубки?»
Дверь сира де Малетруа
Перевод Л. Шелгуновой
Дени де Болье не минуло еще двадцати двух лет от роду, но он считал себя вполне взрослым и совершенным кавалером. В те грубые, воинственные времена мужчины рано развивались. Если юноша участвовал хотя бы в одном правильном сражении или в десятке набегов и успел кого-нибудь убить приличным образом, если при этом он мог поговорить о военном искусстве и усвоил обычные манеры людей своего круга, то его и взаправду считали «совершенным кавалером» и легко прощали невинное фанфаронство – стремление казаться старше своих лет.
Дени с должной заботливостью поставил свою лошадь в конюшню гостиницы, с должной солидностью поужинал, а затем в отличном расположении духа отправился в гости. Это было не особенно благоразумно. Лучше было дождаться утра, так как город занимали английские и бургундские союзные войска, и хотя у Дени в кармане был пропуск для ходьбы вечером по улицам, но это была не очень надежная защита при возможных случайных столкновениях в городе, объявленном на военном положении.
Дело происходило в сентябре 1429 года. Погода стояла отвратительная. Порывистый, бешеный ветер с дождем крутил опавшие с деревьев аллей листья. Кое-где в окнах виднелся свет; временами до слуха Дени доносились и быстро умолкали крики и гульба веселившихся после ужина солдат. Быстро наступала ночь. Английский флаг, развевающийся на верху высокого шпиля, побледнел на фоне бегущих облаков, уносимых ветром, и превратился в темное пятно, похожее на провал в бурном, свинцово-сером хаосе неба.
Дени де Болье шел быстро и вскоре уже стучал в двери дома, где жил его друг. Но, хотя он и обещал самому себе пробыть недолго и рано вернуться домой, его встретили так радушно и самому ему было так весело, что давно уже прошла полночь, когда он попрощался на пороге со своим приятелем. За это время ветер стих, но на улице было черно как в могиле, из-за густых туч не видно было ни звезд, ни луны. Дени был плохо знаком с запутанными переулками Шато-Ландона; даже днем он затруднился бы в выборе между ними, а теперь, при совершенной темноте, он вскоре совсем потерял дорогу. Он знал только одно – надо подняться на холм, так как дом его друга находился на нижнем конце города, а гостиница Дени стояла наверху, у церкви. Руководствуясь одним этим указанием, он подвигался точно ощупью и вскоре вышел на открытое место, где над головой виднелся уже порядочный кусок неба. Жуткое и неприятное положение – очутиться в полной темноте в почти незнакомом городе!
Прикосновение руки к холодным оконным переплетам заставляет человека вздрагивать, как от прикосновения жабы; от неровностей мостовой он то и дело спотыкается; в наиболее темных местах ему угрожают неровности и ямы; и чем яснее воздух, тем более странный, непонятный вид принимают дома и отклоняют путника от верного пути. Дени все это на себе испытал. Но надо было скорее добраться до гостиницы – только там можно было считать себя в безопасности, – и потому он шел как можно быстрее, но осторожно, останавливаясь на каждом углу, чтобы рассмотреть дорогу.
Некоторое время он шел по такому узкому переулку, что мог прикоснуться руками к противоположным стенам. Затем переулок круто обрывался вниз. Было ясно, что эта дорога не вела к его гостинице, но надежда на лучшее освещение побудила его пойти вперед на разведку. Переулок оканчивался террасой со сторожевой башней, в которой было отверстие. Через это отверстие, как сквозь амбразуру, можно было различить далеко внизу долину под городом, а в ней темную аллею, сквозь которую светлым пятном виднелась полоса реки, протекавшей здесь через шлюзы. Небо несколько прояснилось, висшие тучи уже заметно отделялись от черных вершин окрестных холмов.
Оглянувшись на террасу, Дени смог рассмотреть, что ближайший дом отличается необычайной архитектурой. Прежде всего его поразил слабый свет наверху, точно из многих отверстий. Вглядевшись, Дени различил, что этот свет исходит из замысловатой сети фигурных оконцев круглой часовни, но сама часовня словно висит в воздухе. Он не сразу рассмотрел, что ее поддерживает ряд других откосов, отходящих от массивной стены дома. Этот слабый свет еще резче оттенял черноту остроконечной крыши и нескольких примыкавших к ней башенок. Затем Дени увидал и большой глубокий портик, украшенный изваяниями, а над ним – две каменные горгульи, скрывавшие в своих пастях концы длинных водосточных труб. Дени решил, что это городское жилище какого-нибудь знатного сеньора, вспомнил вдруг свой дом в Бурже и еще некоторое время постоял здесь, мысленно сравнивая архитектуру обоих домов, богатство и знатность их обитателей.
Надо было подумать о дальнейшей дороге. От террасы, казалось, был лишь один выход – тот самый переулок, который привел его сюда. Оставалось только подняться по нему обратно. Дени это не смутило: он теперь знал, что находится высоко на горе и потому недалеко от главной улицы, где стояла его гостиница. Дени быстро двинулся по переулку, но не успел пройти сотню-другую шагов, как увидел факелы спускающегося патруля и услышал громкие голоса солдат. Дени приостановился и с тревогой заметил, что солдаты пьяны. «С ними и пропуск не поможет – могут убить прямо как собаку, и баста!» – подумал Дени. Он решил потихоньку удалиться.
К несчастью, когда он быстро обернулся, чтобы побежать назад, то споткнулся о камень и упал, не сдержав легкого крика, а его шпага громко зазвенела, ударившись о камни мостовой. Два или три солдата крикнули по-французски и по-английски: «Кто там?» Дени не ответил и быстро побежал вниз по переулку. На террасе он приостановился, чтобы осмотреться. Солдаты уже бросились в погоню, громко бряцая оружием и направляя факелы во все темные уголки.
Дени огляделся кругом и бросился в портик того дома, которым недавно любовался. Там его могли совсем не заметить, и, во всяком случае, это была позиция сравнительно очень выгодная для ведения переговоров или самозащиты. Думая так, он вынул шпагу и прислонился к двери. К его удивлению, дверь подалась под давлением его спины и, хотя он в тот же момент отскочил, продолжала открываться на бесшумных, смазанных маслом петлях, пока не открылась полностью. За дверью было совершенно темно. Когда обстоятельства благоприятствуют заинтересованному человеку, он не особенно расположен критически разбирать, как и почему это произошло, – его собственное личное удобство кажется достаточным объяснением наиболее странных и неожиданных перемен в подлунном мире. Поэтому Дени, ни секунды не раздумывая, вошел внутрь и притворил за собой дверь, чтобы обеспечить себе убежище. Ему не приходило в голову закрыть ее совершенно, но по какой-то необъяснимой причине – может быть, благодаря пружине или скрытой гире – тяжелая масса дубового дерева выскользнула из его рук и захлопнулась с сильным стуком.