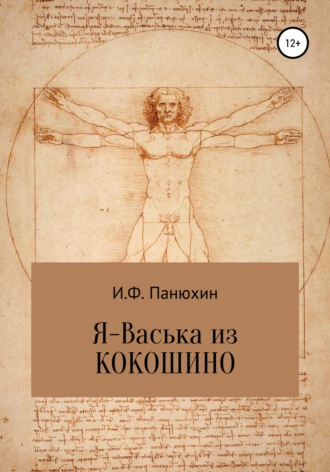
Полная версия
Я – Васька из Кокошино
Дядя Серёжа снова повернулся к Сергею Савельичу. В избе было шумно. Не сразу разберёшь, кто и на какую тему разговор ведёт. Максим спорил с дядей Кузей на тему волчьих повадок. Дядя Кузя видимо находился под впечатлением от увиденных в поле порубанных волков. «Надо же, шесть волков порубил! Да ещё и не всех».
Григорий Порфирьевич, Агния Степановна, мама, тётя Тая и Анна Ивановна внимательно их слушали, пытаясь представить картину побоища. А я прислушивался к разговору дяди Серёжи с Сергеем Семёнычем.
«Нынче модно сдавать партбилеты, – сказал дядя Серёжа. – Не думал я, что вы поддадитесь этой моде». – «Нет, Сергей Савельич. Сто раз нет, – встрепенулся Сергей Семёныч. – Я даже могу обидеться на ваш вывод». – «Ну, если мода не причём, тогда почему?» – «А причина простая. Нагляделся я на партию, особенно на её руководителей и пришёл к убеждению – идея коммунизма порочна, абсурдна, даже преступна. В эту идею может верить только тот, кто не имеет представления о человеческой психологии. В кого она превращает человека? В шестерёнку, винтик, в бесправную, опустошённую, послушную тварь. У нас уже не осталось ни чувства собственного достоинства, ни чувства полноценного человека, ни уважения к себе и к другим. Опустошили наши души. И это ещё по пути к коммунизму, а что же тогда дальше-то будет?.. А эти наши руководители, так называемые «убеждённые коммунисты», в кого они превратились? В хищников? Для чего хищнику коммунизм? Чтоб беспрепятственно пожирать кого захочется?» – «Почему в хищников?» – несколько удивился дядя Серёжа. – «А вы не перебивайте, слушайте. Мне хочется выговориться. Не язык почесать, а успокоиться, утвердиться в мыслях. Вы, я, мы – мой народ тысячу раз обманут, тысячу раз ограблен и обобран, оскорблён, унижен, забит, замордован, обесправлен, запуган. Кем? Советской властью? Не было у нас её и нет – Советской власти. Вся власть у партии. Семьдесят лет мы думали, что живём в Советском Союзе. Не было Советского Союза и нет, потому что у нас нет ни одной союзной республики. У нас есть империя с покорёнными, бесправными народами. Вот мы с вами – колхозники. Нет у нас во всей России ни одного колхоза. Ложь всё это. Утопили нас во лжи». – «Как нет колхозов? – перебил дядя Серёжа. – Но мы же колхозники». – «Колхоз – коллективное хозяйство. Какое к чёрту оно коллективное, если коллектив не хозяин своего хозяйства?» – «Понял». – «Не перебивай. Семьдесят лет вешали нам на уши лапшу. Семьдесят лет учили нас думать «телячью думу» – в недовольстве молчать, а на радостях мычать. Это по воле партии, возжелавшей сласти от власти, были замучены, сгноены и расстреляны в тюрьмах и лагерях лучшие сыны моей Родины, миллионы невинных моих братьев и сестёр. Это она (партия) оставила кормилицу землю без хозяина, это она культивировала вместо оптимизма верхоглядство, это она в инфляцию выплеснула свою неряшливость. И нет ей от меня прощения!»
Сергей Семёныч был не просто взволнован, он был вроде как на кого-то сердит. Казалось вот сейчас хватит кулаком по столу. Оттого дядя Серёжа его не перебивал, слушая и наблюдая за его жестами. Но Сергей Семёныч вдруг как-то разом сменил сердитый вид на улыбку. Вот, думаю, артист!
«Народ и партия едины!» Помнишь такой лозунг? – продолжил, между тем, он свой монолог. – Есть народная басенка: «Однажды калина сама себя хвалила: ах, как я с мёдом хороша! А мёд ответил: ах, душа, не зря ли ты поёшь? Ведь я и без тебя хорош». Коррупция… Знаешь, что такое коррупция? Гниение верхушки общества. Наше правительство сгнило. «Убеждённые коммунисты» сгнили! Наша всемогущая партия создала себе закон неприкосновенности. Никакой народный суд не имеет право судить члена партии. Это ли не преступление?! И это явилось благодатной почвой для возникновения мафии. Где центр мафии? Наверху! – Сергей Семёныч показал указательным пальцем на потолок. – А я голосовал за них… И нынче каждый член партии является если не потенциальным мафиози, то пособником мафии».
Мне захотелось запомнить слова «потенциальный мафиози» и я стал про себя их повторять, чтобы потом спросить у дяди Серёжи, что это такое? Естественно я притупил внимание и дальнейший их разговор не запомнил. Помню только, что дядя Серёжа махнул рукой и сказал: «Наплевать на политику! Я всё равно в ней не разбираюсь. Не моя это забава. Давайте лучше лишний раз подумаем, как пацанов квалифицировать». – «Ах! – крякнул Сергей Семёныч. – Давай ещё по стопке, я что-то взвинтился».
Сергей Семёныч налил и они чокнулись без тоста. Дальше, между прочим, мужики тостов не произносили, наливали себе и выпивали. Особенно часто это делал Максим, предлагая свою компанию дяде Кузе и Григорию Порфирьевичу. Но те его поддерживали редко и вот Максим крепко захмелел, откинулся на спинку стула и повесил пьяную голову. Вид у него был весьма не привлекательный. Анна Ивановна сняла с печки старое рваное пальто, бросила его на пол у порога и дядя Кузя препроводил Максима на эту импровизированную постель. Тётя Тая запела: «В низенькой светёлке…», мама подхватила, за ней и Анна Ивановна, и Агния Степановна, потом все мужики, в том числе и Григорий Порфирьевич. Мама встряхнула меня: «пой». Я сначала стеснялся, но потом подумал: а кого стесняться-то? И зачем? И я подхватил песню, вливаясь в мужские голоса. Слов я не знал – прислушивался, ловил их налету и запоминал. Кончилась одна песня, тут же началась другая. Протяжную песню сменяла весёлая, весёлую – грустная, потом шуточная, потом снова протяжная. Пение мне понравилось и я пел с удовольствием. В избу ввалился Фёдор Степаныч – сепараторщик. В деревне пирушку не утаишь. Особенно, если в избе поют. Ну, а Фёдор Степаныч, видно, соскучился по стопке. Нынче не скоро дождёшься, кто тебе нальёт. А сам – купил бы, да негде. Как не воспользоваться случаем?
«Прошу меня извинить, не ко времени зашёл», – стал он оправдываться, не успев поздороваться. «Не наступи на спящего», – предупредил его дядя Кузя. «А-а-а-а… Фёдор Степаныч, сосед мой дорогой, – протянул руку навстречу вошедшему Сергей Семёныч. – Раздевайся, проходи».
Анна Степановна помогла Фёдору Степановичу раздеться и усадила на место, покинувшего стол, Максима, налив сходу стопку. Фёдор Степаныч, зажав в кулак «заветную», поинтересовался: «Ну так по какому случаю пир-то? Кого и с чем мне поздравлять-то?» – «Сергея Савельича с Васькой поздравляй, – подсказал дядя Кузя. – С победой». – «С какой победой?» – Дядя Кузя взмахнул правой рукой, как бы готовя решительный жест, но, посмотрев на дядю Серёжу и женщин, обмяк, бросив просто: «Пей за здоровье Сергея Савельича и Васьки».
В уговоры вклинился Григорий Порфирьевич: «Ты, Фёдор, выпей во славу Господа Бога, ибо все наши деяния и здравие в воле его. Да перекреститься не забудь». – «Слава тебе, Господи!» – воскликнул Фёдор Степанович и опрокинул стопку в рот. Мне показалось он одним глотком её осушил. Закусив, Фёдор Степаныч завёл тихую беседу с дядей Кузей. Тот, похоже, принялся объяснять ему причину пира. А дядя Серёжа с Сергеем Семёнычем что-то безбожно потрошили. С чего начался разговор, я прослушал. Внимание моё привлеки слова: «неряшливость», «верхоглядство» и «тщеславие». Григорий Порфирьевич попросил Фёдора Степаныча поменяться с ним местами, подсел к Сергею Семёнычу поближе, чтоб послушать их разговор, а может и своё слово вставить. Женщины завели свою беседу, решая свои проблемы. Мы с тётей Таей тоже поменялись местами для удобства. Фёдор Степаныч быстро выровнял своё состояние с дядей Кузей. Но мне было не интересно о чём они говорили. Меня всю жизнь тянет к дяде Серёже, поэтому я боялся пропустить каждое сказанное им слово. А этот сегодняшний их спор-разговор мне показался особенно интересным, потому что они сегодня, возбуждённые спиртным, как-то особенно убеждённо и решительно выкладывали свои мысли. Говорил больше Сергей Семёныч, а дядя Серёжа слушал и, время от времени кивая головой, как бы утверждал его мысли и рассуждения.
«Моя философия, Сергей Савельич, вот какая. И к своей работе я хотел бы относиться с позиций этой философии, и хочу, чтобы и вы с пацанами это учитывали. Человек – это высокоорганизованное животное. Основой организации его психики, сознания, поведения и внешних его форм, отличающих его от всего животного мира, является труд и речь. Извечно наивысшую оценку человек получает с позиций его отношения к труду. И чем равнодушней человек относится к труду, тем более он возвращается к слабоорганизованному животному по психике, по сознанию, по потребностям и по форме. В этом я убеждён. Сам много раз наблюдал до чего опускаются лентяи. Надо создавать такие условия, при которых труд всегда бы нёс человеку радость и только радость. И даже усталость чтобы была приятной. И внешнее, и внутреннее состояние человека всецело зависят от организации труда. Если труд хорошо организован – человек собран, опрятен, культурен и внешне и внутренне; плохо организован труд – человек неряшлив и внешне и внутренне». – «Как во всей матушке России, – улыбнулся дядя Серёжа. – Любой труд может быть творческим, если его выполнять не по шаблону, а осмысленно, делая в нём свои открытия, совершенствуя его по-своему. Поэтому человек должен избрать себе профессию обязательно по душе, по призванию. Специальность не должна быть в жизни человека только источником средств существования. Специальность должна быть сферой творческой деятельности, а рабочий участок – лабораторией его открытий. Именно в творчестве человек находит радость труда. И тогда труд его не утомляет, ему хочется сделать ещё больше, ещё лучше. Шаблон же утомляет и человек невольно в своём труде допускает неряшливость, неаккуратность». – «Удивительно, вы, Сергей Савельич, правильно меня понимаете. Я при этом имею такой вывод: призвание – это творческая потребность, а лень – ограниченность человеческих потребностей». – «Труд красит человека, а ленивого приводит в ужас», – вставил своё слово Григорий Порфирьевич. – «Правильно, Григорий Порфирьевич, но мы немножко не о том…» – «Вы правильно, Сергей Семёныч, говорите, что в основе культуры нашего правительства лежит неряшливость, верхоглядство и тщеславие, – сказал дядя Серёжа, – это всё противоречит вашей философии. Я не могу отрицать вашу логику, а могу только сожалеть, что при такой культуре нашего правительства нам по-человечески не жить». – «Вот почему я выложил партбилет. Я им не попутчик. Кстати, что означает слово «товарищ»?» – Дядя Серёжа подумал, пожал плечами, признав, что не знает ответа на этот вопрос. – «Слово «товарищ» в своём изначальном значении – это попутчик… по товару. Это древне-купеческое слово. Позже его заимствовали братцы разбойнички, отбиравшие у купцов товар. А ныне товарищи-коммунисты превратились в разбойников». – «Коммунизм, это высшая форма паразитизма», – заявил дядя Серёжа. Сергей Семёныч повернулся к Григорию Порфирьевичу, не обратив внимание на слова дяди Серёжи. «Вам скучно, Григорий Порфирьевич, в нашей компании? Может предложите нам свою тему для беседы? А мы с Сергеем Савельичем ещё наговоримся. Мы с ним чаще встречаемся, чем с вами».
Сергей Семёныч наполнил стопки, предлагая Григорию Порфирьичу и дяде Серёже чокнуться. Они выпили. Закусывая, Сергей Семёныч мне подмигнул и сказал: «Ты, Вася, нас не слушай. Наша болтовня тебе не интересна. Послушай, о чём бабоньки говорят». – «Что вы, – говорю, – Сергей Семёныч? Я как в кино сижу – и нагляделся, и наслушался. Я вас с удовольствием слушаю. Вот только не всё понимаю». – «Ничего, Вася, поживёшь – всё поймёшь. Только не вешай нос». – «Молодости характерен ненасытный интерес ко всему, – встрял в разговор Григорий Порфирьевич. – Притупление интересов – это уже признак старости. Не зря говорят: «много будешь знать, скоро состаришься», ибо молодой в познаниях ненасытен, а состарившийся многое уже считает необязательным. Вот вы, Сергей Семёныч, долгое время пребывали в иллюзиях коммунистических идей. Порой относились к церкви как к врагу. Простите, не лично вы, а партия, которую вы ныне покинули… Думается мне, что в душе у вас кроются не коммунистические образы, а нечто другое, более вас удовлетворяющее. Пусть вы не признаёте Господа Бога, но вы не можете себе объяснить сущность силы, которая стоит над нами и руководствует нашими деяниями. Интерес вас не покидает – вы ещё молоды. Иначе вы не пришли бы к такому умозаключению, заставившему вас расстаться с партбилетом. Хотел бы я знать, нет ли в душе вашей перемен в отношениях церкви?» – «Нет, Григорий Порфирьевич. Хотя, признаться, я действительно затрудняюсь объяснить себе «сущность силы, которая стоит над нами». Я догадываюсь, – улыбаясь погрозил Сергей Семёныч пальцем, – куда вы закидываете удочку. Я уж как-нибудь сам попробую разобраться в этом».
Григорий Порфирьевич с улыбкой согласно покивал головой и обратился к дяде Серёже: «А вы, молодой человек, как бы на это ответили?» Дядя Серёжа зачем-то взял со стола вилку, повертел её в руках задумчиво и стал не торопясь выстраивать свой ответ: «Я думал об этом. Много думал. Я ещё там, в храме над этим задумался, когда Васькину бабушку хоронили. Вернее, отпевали. Если хотите, могу высказать свои мысли. Но они, боюсь, для убедительности будут выглядеть несколько длинно». – «А куда нам спешить? – сказал Сергей Семёныч. – Сегодня у нас праздник». – «Я готов смиренно и терпеливо вас выслушать», – поддержал Григорий Порфирьевич. Сергей Семёныч хотел снова наполнить стопки, но дядя Серёжа его остановил. «Не стоит. Пока не нужно. Уж коли я собрался с мыслями, что думаю – скажу». Он опёрся левым локтем о стол, правую ладонь положил на колено и начал свой длинный монолог.
«Чем слабее человек владеет логикой, тем чаще он ошибается. Чем чаще ошибается, тем больше не доверяет себе, тем в меньшей степени надеется на свои силы и волю, тем в большей степени он верит другим, тем слабее его чувство собственного достоинства, тем более он почитает авторитет другого. Оттого на Земле появилось раболепие, подхалимаж, фанатизм. Таких людей на Земле очень много и будут они существовать вечно. И ими всегда будут пользоваться сильные люди. Они – неудачники, вечно нуждающиеся, самоуниженные. Этим удобно спекулировать. А сильные – ненасытны». – «Не то я хотел от вас услышать», – перебил дядю Серёжу Григорий Порфирьевич. Дядя Серёжа поднял руку: «Слушайте дальше. Фундаментом всей жизни на Земле является надежда. Человек развивает свою деятельность, организует свою жизнь, надеясь на свои умственные возможности и физические силы, на условия, которыми он располагает и на помощь сильных людей. Когда несчастья, беды и неудачи исчерпывают все надежды на собственные силы и ум, на возможную человеческую помощь, человек падает духом. Его жизнь становится невозможной, бессмысленной, лишается фундамента. А без фундамента как?.. Но по какому-то стечению обстоятельств в жизни бывают случайности – что-то человека, находящегося казалось бы в безвыходном положении, спасает. Эти случайности рождают в человеке затаённую, дополнительную надежду. Хотя, надо сказать, что такие случайности далеко не всем на Земле достаются, но они иногда ещё и повторяются (чаще, конечно, у разных людей, а не у одних и тех же). За эти случайности, счастливые случайности, человеку всегда хочется кого-то отблагодарить. Но кого? Кто человеку готовит случайности? Кто выручает, помогает, не даёт преждевременно умереть – спасает? Так у человека появляется Бог-спаситель – невидимая, но всемогущая сила. Бог, он не вечен: я умру – умрёт и Бог со мной, ибо Бог, он во мне, а не в небесах». – «Вечен! – возразил Григорий Порфирьевич. – Бог, он творец». – «Творец – природа. Она – вечна. А Бог, это – затаённая надежда». – «Логично!» – воскликнул Сергей Семёныч. «Бог создавался долго, много тысячелетий, – продолжал дядя Серёжа. – Связь наших предков с Богом – это их культура. А коли религия – культура наших предков, мы обязаны к ней относиться как к явлению музейному – с уважением, бережно. Пользоваться ею, я считаю, и можно, и не обязательно. У нас должна быть своя культура, которую мы, к великому сожалению, не имеем – не создали. А без культуры как?..» – «Правильно, Сергей Савельич, коли нет пока другой культуры, пусть живёт старая, всё лучше, чем ничего».
Григорий Порфирьевич резко встал, подвинул стул и снова сел. «Вы, по своему, может быть и правы, но для меня неприемлемы выражения «музейное явление», «старая культура». Обижает как-то». – «Я прошу прощения, Григорий Порфирьевич, – сказал Сергей Семёныч. – Впредь постараюсь воздерживаться от подобных выражений». – «Мы отвернулись… – продолжал дядя Серёжа. – Нет, не отвернулись, а отвергли культуру предков, не создав своей, и плюхнулись в омут невежества. Семьдесят лет демонстрировали миру своё невежество. Над нами смеялись, а мы гордились». – Он ненадолго замолчал и, будто пытаясь принять более строгую позу, слегка выпрямился, словно приготовился встать из-за стола. – «Я не знаю своих родителей. Я вырос в детдоме. Но я не могу простить такое отношение к предкам, к их культуре. Я не крещёный. Я не молюсь. Я не знаю христианских обрядов и обычаев. Я вообще ничего не знаю о церковной жизни. Я единственный раз попал в храм, когда хоронили бабушку Сыроедова. Как же я был возмущён, когда увидел прелесть культуры своих предков, которую так безжалостно уничтожали… коммунисты, развернувшие атеистическую компанию».
Сергей Семёныч и Григорий Порфирьевич дядю Серёжу не перебивали. Слушали, сосредоточенно погрузившись в собственные мысли.
«Варварство! – продолжал дядя Серёжа. – Непростительное варварство! История коммунистам такое не простит. Я не знаю, когда и в какой форме будет суд, но судить коммунистов за это будут». – «Их много за что будут судить», – сказал Сергей Семёныч, задумчиво качая головой. «Бог им судья», – добавил Григорий Порфирьевич, глядя куда-то в пустоту. «А какую ты имеешь в виду новую культуру, вместо христианской?» – вдруг спросил Сергей Семёныч дядю Серёжу. – «Если бы я знал… – ответил дядя Серёжа. – Новая культура должна рождаться медленно, безболезненно заменяя старую. Во всяком случае мне бы так хотелось, а не так, как это проделывали коммунисты. Какая она, новая культура? Я её не знаю и не представляю. Думается мне, что она кроется в развитии науки, в человеческих познаниях неопровержимых истин и тайн природы, ну и, конечно, в развитии объективных отношений человека ко всему, с чем связана его жизнь и его деятельность. По моим понятиям культура, это – качество человеческих отношений ко всему, с чем связана его жизнь. А в жизни, конечно, им не всё познано. И то, что им не познано, то породило культуру наших предков – отношение к непознанному. Долгие года, я бы сказал, слишком долгие годы человек всё непознанное увязывает с Богом, с Божьей деятельностью. Не может оторваться от созданной предками культуры. Инерция… – развёл руками дядя Серёжа. – Великая сила – инерция! Современные колдуны-экстрасенсы не только считают свои способности даром божьим, а иногда и присваивают себе статус Божьих посланников. Почитаешь их, диву даёшься – грамотные, с высшим образованием, а так охотно лезут в старую культуру».
Тут Григорий Порфирьевич встрепенулся: «Позвольте, молодой человек, с вами не согласиться». – «В чём, Григорий Порфирьевич? Где я ошибаюсь?» – «Вы говорите, современные экстрасенсы лезут в старую культуру. На мой взгляд они утверждают фактами учение Иисуса Христа о наличии души человеческой, о её бессмертии. Они на живых примерах доказывают, что душа, в форме энергии, способна отделяться от тела и возвращаться. Душа бессмертна. Человек умирает телом, а душа остаётся». – «Извините, Григорий Порфирьевич, – перебил его дядя Серёжа. – Никакая энергия душой быть не может, как и душа не может быть энергией, потому что никакая энергия не может быть самоуправляемой. У любой энергии есть единственное стремление – это занять доступное пространство. В остальном её надо направлять. А для самоуправления энергию мало снабдить человеческим разумом, который был бы в единстве с разумом тела, её ещё надо снабдить необходимой механикой для самоуправления». – «А почему вы не допускаете, что Бог данную энергию снабдил всем необходимым?» – «Но вы же, Григорий Порфирьевич, знаете, что механика способна ломаться. Какой тогда может быть разговор о бессмертии души?» – «Но механика души не рукотворна». – «Вот именно, нерукотворна. Она находится в ведении генов, а не в руках человека. Умение мыслить – пользоваться интеллектом – это своего рода механика материи. Могут ли мыслить душа и Бог, если они нематериальны?» – «Душа и Бог – материальны!» – горячился Григорий Порфирьевич. – «А если они материальны, из каких материалов они созданы и кем?» – «Вы, молодой человек, домогаетесь начало найти?» – «Материя, Григорий Порфирьевич, не имеет начала и конца – она вечна. Другое дело, что форма материи имеет начало и конец. Форма – есть произведение природы. Бог и душа человеческая, я думаю, не бесформенны, коли они материальны. К тому же всё, что материально, то подвластно законам притяжения и отталкивания. Как же душа и Бог находятся в небесах – не падают, не улетают от Земли?» – «У Бога своя механика и свои законы». – «Но Бог ведь создал человека по своему подобию. Какая же у него может быть своя механика и свои законы?» – «А вот американцы зафиксировали много фактов, – не унимался Григорий Порфирьевич. – Они опрашивали людей, вернувшихся после клинической смерти. Что они видели там, когда, можно сказать, умерли? И большинство утверждали, что улетали куда-то в неведомое, оставляя своё тело на смертном одре». – «Человеческий организм, Григорий Порфирьевич, состоит из множества органов – зрение, слух, осязание и другие. Не все органы при клинической смерти отключаются одновременно. Чаще всего, видимо, у человека отключается в первую очередь ощущение тяжести, а мозг продолжает работать. И вот человек начинает испытывать великое облегчение, и как будто он полетел. А куда полетел? Коли мозг ещё не отключён, он начинает, так сказать, фантазировать. И вот, выйдя из состояния клинической смерти, человек заявляет, что он побывал в раю или аду».
Григорий Порфирьевич унялся, а дядя Серёжа продолжал: «Душа – это определённое поведение генов, создающее определённое состояние организма. Душа – это позитивное проявление чувств. При этом непременно присутствует та загадочная энергия, которая необходима генам для их общения, на которую обратили внимание экстрасенсы и ошибочно назвали Душой. Именно гены и придают ей нужные направления и создают нужные им формы её бытия. Эти формы бытия загадочной энергии и сбили с толку экстрасенсов».
Григорий Порфирьевич пожал плечами, демонстрируя недопонимание. «Что, Григорий Порфирьевич, – спросил дядя Серёжа, – я непонятно говорю?» – «Кто такие эти ваши гены? О чём вы говорите?» – «Мне тоже не всё понятно, – поддержал Григория Порфирьевича Сергей Семёныч. – Гены – это по сути нуклеиновая кислота. Она что, способна проявлять определённое поведение, создающее определённое состояние организма?» – «Экстрасенсы на примерах доказали, как душа способна парить над оставшимся на одре телом и наблюдать, что с ним происходит, что с ним делают люди», – настаивал Григорий Порфирьевич. – «Абсурд! Это абсурд, Григорий Порфирьевич. Не спешите в это верить. Где остались глаза? Душа с собой их взяла или они остались при теле? А где остались мозги? Или душа способна самостоятельно мыслить? А может быть душа одно соображает, а тело о другом мыслит? Душа и тело едины! А то, что наблюдают экстрасенсы, это игра воображения, только и всего». – «А вот чем объяснить такое явление? – вклинился в спор Сергей Семёныч. – Я часто во сне летаю. Говорят ребёнок во сне летает – он растёт. А я до сих пор летаю, и летаю довольно часто, хоть давно уже и не ребёнок, да и расти дальше уже поздновато. Может это душа моя летает, а я на кровати остаюсь?»
Дядя Серёжа улыбнулся. – «Думал я на эту тему, Сергей Семёныч, сам тоже иногда летаю. Дело в том, что наши органы в некоторой степени самостоятельны и во сне отдыхают по-разному. И вот когда орган ощущения тяжести отключается, мы с вами и летаем». – «А какая необходимость в этом?» – «В чём?» – «Что в этот момент надо летать?» – «Так ведь момент отключения тяжести даёт… импульс, что ли(?), для воображения. Сон ведь чаще всего – сумбурное воображение». – «Почему сумбурное?» – «Потому что многие наши центры чувств отключаются, а не отключившиеся работают, создавая сумбурное, неполноценное воображение». – «Да, да… это понятно. Ну, а насчёт генов?..» – «Я прошу прощения, – извинился дядя Серёжа. – Я не генетик – иначе строить свою логику не могу. Я так рассуждаю: я сам себя не строил. Меня кто-то построил по строго определённому проекту. Как липа из крапивного семечка вырасти не может, так и я не от кого попало произошёл, а от человека. Мой организм построен из определённых материалов в строгом соответствии с программой. Все органы и части моего тела строго скопированы с предыдущего организма – отца и матери. При построении моего организма использовано всё наличие тех материалов, которые я принимал в себя во время еды. О случайных химических соединениях речи быть не может, потом что я имею определённую форму, а не случайную, являюсь копией отца. Всё это даёт мне право думать, что я кем-то построен». – «Богом», – сказал Григорий Порфирьевич.– «Не перебивайте, Григорий Порфирьевич», – одёрнул его Сергей Семёныч. – «Это не серьёзно, Григорий Порфирьевич, – возразил дядя Серёжа. – Я позволю себе объяснить весь процесс развития и сохранения организма деятельностью генов – неутомимых тружеников, перед которыми я преклоняюсь, а не перед Богом. Именно гены строят и берегут организм. И строят не из ничего, а из тех материалов, которые мы им своевременно поставляем с пищей. Организм сам снабжает себя стройматериалами. Деятельность генов обусловлена специальностями, как и у человека, у муравьев и термитов, у пчёл. Одни гены берут из пищи необходимый стройматериал для построения организма и восстановления его нарушенных органов и частей. Другие доставляют нужный стройматериал и программную информацию в нужные места организма, третьи – строят и так далее. Для общего руководства созданием, жизнью, деятельностью и сохранением организма существует определённый центр генов, который называется инстинктом. Инстинкт – это руководство генами по созданию, развитию и сохранности задуманного сооружения. Но стройматериал для генов должен добывать сам организм. А как? Для этого гены снабдили организм интеллектом. Организм, пользуясь интеллектом, ориентируется в окружающей среде, тасует обстоятельства, применяя зрение, слух, обоняние, вкус ищет стройматериал, поглощает его занимаясь самоснабжением. Гены через аппетит сигнализируют о необходимости нужного материала, а организм, пользуясь возможностью соображать и двигаться, снабжает им себя. Вернее отправляет в распоряжение генов – в желудок». – «Образно, образно, – улыбаясь сказал Сергей Семёныч, и потянулся к бутылке, чтоб наполнить стопки. – Ну что ж? Отправим уважаемым генам очередную порцию». – «Погодите, Сергей Семёныч, – сказал дядя Серёжа, – я ведь не всё обсказал о душе». – «Да, да, – поддержал Григорий Порфирьевич. – Продолжайте, продолжайте». – «Вот вы проповедуете, что душа бессмертна. И с этим я не могу согласиться. Вы уж меня простите, Григорий Порфирьевич. Я другое наблюдаю. Первое, что умирает в человеке – это душа». – «Как?!» – воскликнул Григорий Порфирьевич. Такое заявление видимо показалось ему ошеломляющим. Он отстранился от стола и уставился на дядю Серёжу округлившимися глазами. «Уж коли я считаю, что душа это определённое поведение генов, создающее определённое состояние организма, то логически прихожу к выводу – в разном возрасте мы по разному воспринимаем окружающий нас мир и по разному к нему относимся. В расцвете наших физических, умственных, половых сил и душа наша цветёт. Мы радуемся жизни, душа в нас ненасытна, но с приходом угасания физических сил, с приходом умственного торможения и особенно с приходом полового угасания душа в нас становится вялой, нетребовательной. К нам приходит равнодушие, безразличие. Как говорят, наступает душевная глухота. Душа постепенно отмирает, хотя организм ещё не умер. Проявления чувств становятся слабыми». – «Я не могу согласиться с вами», – качая головой возразил Григорий Порфирьевич. – «Но я так думаю. Может со временем моё мнение изменится». – «А почему «особенно с приходом полового угасания»?» – спросил Сергей Семёныч. – «Как почему? Для чего генам организм?» – «Ну и для чего по-вашему?» Дядя Серёжа улыбнулся и откинулся на спинку стула. – «Тема меняется, но разговор продолжается. У нас есть умнейшее слово – природа. Это слово люди давно придумали. Любой организм, если он не будет «прирождать», он обречён. Отомрёт этот организм и не будет ему продолжения. А если все организмы не будут прирождать? Угаснет вся жизнь, как таковая. Значит, на первом плане, главенствующая задача генов, вернее главнейшая их забота – плодоношение. И уж конечно бесспорно, пока организм сохраняет способность плодоношения, гены о нём заботятся, оберегают его здоровье, оберегают способность плодоношения. А «в здоровом теле здоровый дух». Не так ли?» – «Так». – «А когда организм утрачивает способность плодоношения, для чего он тогда генам нужен?» – «Не знаю». – «По-моему и гены не знают. Тогда они постепенно перестают заботиться об организме. И организм продолжает жить в меру прочности своей конструкции. Вспомните, многие растения, отсеявшись, погибают. Как и некоторые виды рыб, преодолев тысячи километров к местам нереста, сразу после икрометания погибают». – «Но не все…» – «А иные – многолетние растения – надеются на повторный акт плодоношения». – «И где вы такое вычитали?» Дядя Серёжа поднял левую ладонь, словно отгораживаясь от вопроса: «А что при этом происходит с душой?» Сергей Семёныч, не отвечая, приготовился слушать. И дядя Серёжа продолжил: «Душа увядает. А вернее вступает в стадию отмирания. Ведь наиярчайшие её проявления всегда наблюдаются в период полового расцвета организма и во время заботы о потомстве. Так и задумано природой». – «И тем не менее я неприемлю вашу логику, молодой человек», – откинувшись на спинку стула, выразил своё несогласие Григорий Порфирьевич.

