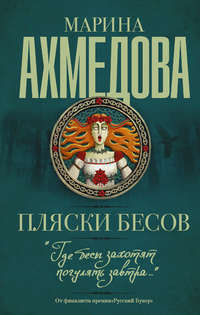Полная версия
Уроки украинского. От Майдана до Востока
– Линия раздела прошла по нашему селу, – быстро перехватывает слово учительница. – В один день половина села попала в Польшу, другая – в Украину. И знаете, в чем основное качество западных украинцев? В том, что мы ничего не забыли. В том, что мы память свою сохранили!
– Но, может, стоило бы забыть? – спрашиваю я. – И тогда будут нарождаться новые поколения, не помнящие ничего, и им будет легче жить.
– Вы так думаете? – качая головой, с чувством спрашивает учительница.
– Неважно, что я думаю. Это – вопрос.
– Я вам кое-что покажу. – Она берет со стола цветные фотокарточки. – Вот дети пришли на могилу к настоятелю церкви, так он умер шестьдесят лет назад, они его никогда не знали. Но он построил для нашего села большой храм. А вот дети пришли к могиле учительницы. Видите, у ней креста нет, только глыба стоит. Вы думаете, почему? Она была разведчицей УПА. Усыновила двух детишек. И одного из этих мальчиков власть воспитала так, что он пришел к той матери, когда она спала, и задвинул в печке заслонку. Она отравилась угарным газом… Она его приняла, а он ее убил. И этого стереть невозможно! И если бы сейчас не мой радикулит… ой-й, я б стояла на Майдане, как в две тысячи четвертом году.
– Вы не пожалели, что стояли в две тысячи четвертом?
– Нет! – выкрикивает она. – Знаете, дети меня в школе как-то раз спросили: «Вот вы ездили в Киев, на Майдане отстояли. И что же?» А я говорю: «Дети!» – У учительницы перехватывает дыхание. – Я говорю: «Дети… – тише произносит она, – нас продали, если так говорить!…Но я хочу сказать, что видела свой народ, и это – самое главное. Я стояла возле Верховного Совета, когда объявляли итоги выборов, и там со мной стоял миллион украинцев, но было слышно, как муха летит…» – Она делает паузу и приводит дыхание в порядок. – Это был народ, и это была сила… А почему мы хотим в Европу? А потому что мы хотим, чтобы нас судили честные судьи. Вы нас страшите газом? А у нас его никогда не было.
– Я тоже смеюсь, когда мне говорят: «Вам Путин перекроет газ», – смеется Ирина. – Нам в Раве Русской до газа – двадцать километров. А до газа в Европе – четыре километра. Мы до сих пор отапливаемся углем и дровами. А за то, чтобы протянуть на двадцать километров трубу, Украина с нас хочет сорок миллионов. А Европа бесплатно обещает трубу положить. Они газ у вас покупают по триста сорок, нам продают за триста восемьдесят. Так нам выгодней у них покупать, чем у вас – за четыреста двадцать.
Ирина выходит из машины, когда на дороге показывается похоронная процессия. Звучит тихая траурная песня. Мужчины несут хоругви. Медленно двигается за ними газель с гробом. Горожане из процессии аккуратно поддерживают друг друга под руку, и, можно подумать, что тому причина не печаль, а гололед.
Женщина останавливает мэра, и та, склонив к ней голову, выслушивает ее. «Добре, добре», – говорит, отходя.
– Она просила, чтобы я отговорила ее сына ехать на Майдан, – говорит Ирина. – Ее он не слушается, а меня послушает. Я его отговорю. Ему двадцать два. Начнут бить, ну что он сделает?
Задний двор продуктового магазина покрыт плиткой. По углам краснеют холодильники Coca-Cola. У магазинной стены собрался черный сугроб. Двое мужчин в рабочей форме ждут у входа. Мэр открывает багажник. Мужчины сносят туда коробки с продуктами – рисом, гречкой, паштетом, сосисками, лимонами, чаем, кофе. Каждый раз машина приседает под тяжестью новой коробки.
– Столько будет подогрева, – говорит Ирина, глядя, как заполняется багажник, – что ни один «Беркут» не возьмет. Нас не надо организовывать, мы сами можем сорганизоваться, и никакие политики нам для этого не нужны. Кстати, посмотрите на упаковки, – обращается ко мне. – Это все польские продукты. В Польше они стоят в три раза дешевле. И это – еще одна причина, по которой мы хотим в Евросоюз.
Груженая машина останавливается напротив еще одного мемориала, обнесенного цепями. Ирина подходит к высокому надгробью и поднимает со снега сдутый ветром венок. Возвращает его на место.
– А это могилы французских воинов, – говорит она. – В Раве Русской же находится бывший концлагерь. Очень большой. Шталаг‑352. Туда свозили французских и бельгийских военнопленных. Это про Шталаг Черчилль сказал: «лагерь медленной смерти и двух капель воды». Сейчас в живых остались только двое из бывших узников. Приезжали недавно, землю целовали. Они чего только не рассказывали, но я не могла это слушать. Их живыми сбрасывали во рвы и засыпали известью. Они их там просто убивали! – кричит она. – А наши равские трохи носили им покушать…
Наша следующая остановка – библиотека. Здесь свободный доступ к Wi-Fi bibliomist, предоставленный по одной из программ Евросоюза. За столами перед компьютерами в ряд сидят старшеклассники.
– Что читаете? – спрашиваю их.
– Вконтакте и фейсбук, – отвечают они, отвернувшись от экранов.
– А о чем там говорят?
– О революции. О Майдане.
Ирина процокивает каблуками по мерзлой дорожке детского сада. Под елями на пнях мерзнут тазики, размалеванные под мухомор. На лестнице, ведущей к главному входу, стоят коляски и санки. В самом здании белеют ослепительные пластиковые окна.
– А если бы не работали эти европейские программы… – многозначительно говорит мэр, останавливаясь на ступенях. Она показывает на табличку, висящую у входа, «Проект Громади». В углу таблички – флаг Евросоюза. – «Проект Громади» значит, что капитальный ремонт – замена окон и дверей финансируется Европейским союзом. Мы бы сами этого сделать не смогли. Денег в казне – ноль. Их системно воровали в течение двадцати лет. И это вопрос не только к нынешней власти. У них сейчас сонный час, – она показывает длинным ногтем на новую дверь детского сада и спускается по лестнице.
Машина, в которой мы практически провели весь день, выезжает на Львов, чтобы оттуда двигаться в Киев. Она делает последнюю остановку – на выезде из Равы.
Серый обелиск смотрит на безлюдную дорогу. За его спиной – площадка, покрытая нехоженным снегом. Черные деревья растут полукругом, не заступая на нее. Это памятник советским воинам. К нему ведут несколько собачьих следов.
– К ним кто-нибудь приходит? – спрашиваю я.
– Я, – отвечает Ирина.
– А еще?
– К сожалению, русские к ним не приезжают. И это им очень обидно, – говорит она о солдатах. – Потому что каждый год сюда приезжают к своим воинам французы. Приезжают евреи. Приезжают поляки. А к ним – никто… Здесь были тяжелые бои, видите, какая земля горбатая. Здесь десятки тысяч лежат. Они же целую неделю с начала войны оборонялись. Русские разведчики, конечно, знали, что немец готовит. Но где-то в начале июня сюда пришла депеша – всех разоружить. А начальник пограничной заставы девяносто первого отряда Федор Васильевич Морин не послушался, держал всех в ружье. Узнали об этом в Москве, приехали его расстреливать. А тут ночью немец напал, а они все – в ружье. И неделю держали оборону, а другие за несколько часов падали… Как же все перемешалось! Как же страшно это все – тут русские, там УПА! У меня один дедушка в советской армии служил, а другой – в УПА. И шо ты будешь делаешь? – дотрагивается она до обелиска. – Ну шо ты будешь делать?!
Я спускаюсь по ступенькам вниз – к могилам, запорошенным глубоким снегом. Они – квадратные, братские, низкие. Похожи на пластиковые окна в детском саду – символ выхода в Европу. Становится виден большой серый крест, который, стоя у обелиска, не разглядеть. Он подпирает собой наступающий лес черных деревьев, и те не смеют идти дальше, словно крест из последних сил держит невидимую границу. В этом месте, где нестертая память, сконцентрированная в вернувшихся из Сибири гаивках, не дает живым покоя, могилы, мемориалы и памятники становятся той границей, которая не пускает живых за точку невозврата.
Трезубцы небесной тысячи
К какой войне готовятся боевые отряды Майдана
Боевые отряды украинской революции – «Самооборона», «Правый сектор» и другие – сейчас проблема не только для их «внутренних врагов», но и для самой временной украинской власти. Они не только вступают в драки и перестрелки в Донецке и Харькове, участвуют в самосуде и «люстрации», они захватывают коммерческие структуры и здания. Но при этом они – те, кто морально готов воевать. На Украине на прошлой неделе власти сформировали Национальную гвардию, в которой к военным решили присоединить и боевые группы Майдана. Корреспондент «РР» побывала на первой тренировке «Самообороны» на военной базе, а также встретилась с очень высокопоставленным украинским офицером, который говорил о готовности к войне и терактам.
Андрей, комендант сотен «Самообороны», поднимается на второй этаж поликлиники. В полутемном коридоре ему навстречу попадаются люди в камуфляже и люди в белых халатах.
– У хирурга все были? – выглядывает из кабинета мужчина в халате.
– Да, – отвечает Андрей, сверившись с листком бумаги, который держит перед собой.
Он останавливается там, где от стены отходит полукруглый низкий бортик, засыпанный мелкой галькой. У окна сгрудились мужчины, на рукавах их камуфляжных курток написано «12‑я львовская сотня». На бортиках сидят еще несколько человек. Над ними возвышается сотник, шея которого обернута желтым шарфом с тонкими голубыми надписями «Майдан». Он стоит, сцепив руки за спиной и широко расставив ноги. Между его высокими ботинками на высокой шнуровке поблескивает металлическая пластина, прошитая гвоздями, которая прибивает ковровую дорожку к паркетному полу.
– Это медучреждение, – сообщает Андрей. – А мы расположены сейчас на базе, которая раньше подчинялась внутренним войскам. Там все эти спецподразделения – «Барс», «Ягуар». Они переведены в состав Национальной гвардии. Три дня назад о ней был принят закон. А мы – «Самооборона» – теперь резерв Национальной гвардии и тренируемся на базе «Барса». Вы сейчас, можно сказать, в самом пульсе, – ударяет он последний слог, – этого события. А вот они резервисты, – он показывает на мужчин, сидящих на бортике.
Среди них один, лет пятидесяти, с костистым лицом, сидит, закинув ногу на ногу. Второй лысеющий, плотный, лет сорока пяти. Рядом с ним, касаясь бока локтем, похожий на него румяный парень с серыми глазами, его куртка схвачена на поясе белым ремнем. С краю еще двое, одинаково худые и невысокие. У одного по голове проходят две выбритые полоски, такие же длинные заживающие шрамы на щеке.
– Россия уже завоевала пол-Украины, – говорит он. – Перешла все границы. Я лично поломаю ногу каждого москаля, который ступит на нашу землю.
– Ром, ты поясняй, – обращается к нему, двинув локтем, другой, в растянутом камуфляжном свитере. – Имеются в виду путинские, а не народ.
– Виталь, я же с Луганска, – отвечает Рома. – Я у вас один такой, талисман. Мне оттуда звонили ночью: ребята уже вооружились и даже не хотят ждать первого удара. Люди как? Они из подвала вылезут, стрельнут и залезут обратно. Это же партизанская война. Какого хрена Россия полезла? – обращается он ко мне. – Мы встали против чего? Против того, что нам надоело жить бедно. Я трое суток добирался из Луганска на поезде. У меня пуля в плече.
– Мне интересно, – обняв тонкими пальцами выпирающее из штанов колено, говорит Виталь, – обычные русские спрашивают: что делают в Крыму их зеленые человечки?
– Чем ты раньше занимался, до самообороны? – спрашиваю я.
– Я жил в селе, у меня там полгектара земли, я его обрабатывал. С этого и живу. Сажаю картошку, морковку, буряк, петрушку, лук, даже пшеницу сею. Потом картошку складываю в погреб. Конечно же, продаю немного знакомым. А так я ее и жарю, и супчики готовлю, и деруны. У меня брат младший – он жареную картошку хоть три раза в день есть будет! У нас родителей нет, мы сами всю жизнь живем. А на обед готовлю в основном супчик.
– С мясом?
– Ну нет, конечно же. Вообще-то я покупаю куриные крылышки и закидываю в морозилку.
– Россия с Китаем давно друг другу в спину дышат, – говорит Рома. – Самый лучший спецназ у Китая. Если Россия передвинет большую часть войск сюда, Китай пешим ходом ее затопчет. А Путин останется у разбитого корыта. Смотрите, американский крейсер подошел, – перечисляет он, – Турция сказала, что мусульманских братьев не даст в обиду, плюс Польша уже подтянула войска к границе.
– То есть на свои силы вы не рассчитываете? – уточняю я.
– На нашей стороне мир, – отвечают мне сразу несколько голосов. – Мы защищаем свою родину, а они нападают. Значит, у нас дух сильней. А мы рассчитываем только на свои силы – что я ему спину прикрою, а он мне! Мы пойдем москалей голыми руками душить!
– Балаган прекратить! – командует сотник. Все стихают. – У меня в России масса родственников живет. Но если придется воевать… У меня четверо детей, я обязан буду их защитить. – Сказав это, он уходит широкими шагами по ковровой дорожке.
– А я обязан защитить младшего брата и дедушку, – говорит Виталь, и кадык двигается на его тощей шее.
– А что для вас война? – допытываюсь я.
– Кровь, смерть, разбитые семьи, плачущие люди, – отвечает Рома, дергая за веревочку ламинированный бейдж «Стоп, Россия».
– Ну, это ты совсем, – останавливает его Виталь. – Вообще-то я скажу, что война – это, конечно же, деньги и политика.
– Деньги нас не касаются, – говорит Рома. – Нас коснутся только кровь и смерть.
– Этой весной я картошку не посажу. – Кадык снова проходится по шее Виталя. – Если сейчас все будут картошку сажать, так российский сапог пройдет всю Украину и будут вешать везде флаги русские. А если войны не будет, я буду как-нибудь работать во Львове и до следующей весны протяну. И сразу посажу картошку.
– А я кинолог, – говорит Рома. – Тренирую любых собак: от карликового пинчера до боевых. Если будут у нас тут ваши зеленые человечки ходить, я дам ей команду злобы – она на него бросится и руку ему поломает. Это элементарно. Для этого надо просто знать психологию собаки.
– И какова психология собаки? – спрашиваю я.
– Она все время видит в человеке лидера. А человек ищет моменты злобы в ней, чтобы, воспользовавшись ими, научить ее нападать.
– А я энергетик, – говорит вернувшийся сотник. – Обслуживал иностранные представительства и российское посольство в том числе. У меня стажа больше пятнадцати лет. А с электричеством, знаете, бывают случаи, которые невозможно объяснить. Большие разряды могут возникать из ничего. Эти хаотические разряды, блуждающие сами по себе, объяснить никак нельзя – просто возникают на ровном месте… Двенадцатая сотня! – командует он. – Собираемся внизу возле беседки и ждем автобуса!
– Хотите, зигу кину? – спрашивает меня сероглазый молодой человек, натягивая на лицо пятнистую балаклаву.
– Зачем ты этот фашистский жест будешь ей показывать? – спрашивает его Виталь.
– Вы сами говорите, что российские репортеры все врут, так вы их и не провоцируйте, – придвигается к нему комендант Андрей и цедит слова: – Ну як вот так? Я бы на их месте так и подумал – что вы фашисты.
– Вообще-то знаешь, как слово facio переводится с латинского? – с раздражением спрашивает Андрея сотник. – Ты знаешь, что оно переводится как «родина»?
– Я всегда думал, что оно переводится как «пучок», – бурчит тот. – Сегодня фашисты негодяи: коли мы взяли владу, так будем всех давить. Це для мене фашизм.
– Знаешь, в чем твоя проблема? – в упор уставившись на него, спрашивает сотник. – Ты не знаешь, где служишь. «Самооборона» бачишь что такое? Она аполитична, мы не следуем ни за одной из партий. Мы защищаем батькiвщину.
– Да, мы защищаем народ, – отвечает ему Андрей.
Все собрались у беседки. По парковой зоне поликлиники гуляет пронзительный ветер. С неба капает мелкий ледяной дождь. В беседках с решетчатыми деревянными стенками на скамейках сидят бойцы «Самообороны» в балаклавах. За беседкой березы и сосны. Накладной карман черной куртки Андрея выглядывает из рукава красной подкладкой и смотрится нарукавной повязкой. Роман курит, засовывая сигарету в квадратную дырку, которую образовали сломанные верхние и нижние зубы. Губы посинели от холода. Синтетическая балаклава со спущенным низом туго обтягивает его лицо, выдавливая из него ввалившиеся щеки. Наблюдая настороженно за сотником и комендантом, он выпускает в их сторону сигаретный дым.
– Нам потрiбно выявлять шпионов и провокаторов, – продолжает сотник, – разные криминальные элементы. И судить их по закону военного времени.
– Мы не судьи, – негромко заявляет Андрей.
– Мы не судьи, – подтверждает сотник. – Но если по закону военного времени прописан расстрел на месте, будем расстреливать на месте.
– А я хочу увидеть своих детей, – отшвырнув окурок, обращается к ним Роман. – Но я не могу. Если уеду домой я, за мной уедет еще хто-то, а за ним – еще хто-то. Потому что каждому хочется к семье. А что в итоге? Недееспособная армия и отсутствие добровольцев. Я очень соскучився за своими дiтьми! Очень. Я хочу взять их на руки!
– Строимся! – командует сотник.
Сотня выстраивается в несколько неравномерных шеренг напротив беседки. В последней стоит дед с седыми усами и жгуче-черными бровями. Взрослые стоят с виду разобранные, свесив руки. Молодые – выпятив грудь.
– Кругом, марш!
Шеренги рушатся, смешиваются и толпой направляются к автобусу. Заполнившись и закрыв двери, тот выезжает с территории поликлиники. У шлагбаума ему отдает честь дежурный КПП в военной форме, и пока он стоит под дождем, подняв напряженную ладонь к виску, 12‑я сотня «Самообороны», только три дня назад покинувшая Майдан и ставшая резервом украинской Национальной гвардии, смотрит на него сквозь автобусные окна, покрытые каплями ледяного дождя.
– Интересно, сколько они получают? – спрашивает один из бойцов, но его вопрос остается без ответа.
– Раз, два, три! – объявляет чернобровый дед, и автобус заводится стройной песней.
– Там баррикада, там баррикада – строилась. Стрелял далеко, стрелял далеко – сучий сын, – выводят мужские голоса. – Ой зэки-зэки, ой зэки-зэки вы мои. Довго служили, довго служили вы менi! Бiльше служити, бiльше служити не будете. До кримiналу, до кримiналу пiйдете.
– Слава нацiї! – выкрикивает сотник.
– Смерть ворогам! – отвечает автобус.
За время пути по намокшей трассе на базу «Барса» сотня успевает спеть только две песни.
По асфальтированной дорожке, бортики которой выкрашены свежей известкой и к которой с двух сторон наклоняются березы, колонна движется к череде невысоких желтых зданий. На ее пути просторы, покрытые желтой прошлогодней травой и пересеченные полотном асфальта. Футбольное поле, огороженное воткнутыми в землю и покрашенными сверху белой краской покрышками. На ветру шевелится сетка ворот. Сотня заходит в одно из строений.
Кафельные колонны делят просторное помещение на две половины. Обе равномерно заставлены столами, на каждом посередине стоит тарелка, на ней половинка круглого хлеба вверх горбушкой. За столами сидят срочники в синей форме, склонившись над тарелками с супом и макаронами. Когда заходит сотня, разговоры становятся тише. Сотня проходит в глубину столовой и там садится особняком в самом конце, не смешиваясь со срочниками. Минуты через две срочники встают из-за столов и большими группами покидают столовую.
– Вы стояли против них на Майдане? – спрашиваю я, присаживаясь за столик к двум доедающим срочникам и кивая в конец зала – на сотню.
– Было дело… – неохотно поднимается от тарелки один из них.
– А теперь, когда вам… – начинаю я.
– Не спрашивайте, – перебивает он. – И так понятно, что вы хотите спросить. Как мы себя чувствуем, когда нам приходится сидеть с ними в одной столовой?
– Да. Как вы себя чувствуете?
– Не очень, – отвечает второй, обменявшись с первым понимающим взглядом. Несколько секунд они смотрят через стол друг на друга, как могут смотреть люди, находящиеся в одной и той же ситуации и сказавшие о ней друг другу настолько все, что стали способны передавать мысли глазами.
– Наше начальство говорит одно, а потом делает другое, – тихо говорит второй срочник.
– Вы с ними еще не подружились? – спрашиваю я.
– Не особо… Мы с ними почти не разговариваем. Но нам осталось всего месяц службы, мы собираемся домой. А на территории мы пока себя чувствуем отлично.
– Месяц быстро пролетит, – соглашаюсь я.
– Спасибо за поддержку, – откликаются они и, обменявшись еще одним взглядом, встают из-за стола. Уходят.
Через несколько минут на мой стол срочники передают пачку печенья и плитку 56‑процентного шоколада. Я оборачиваюсь. Сотня сгрудилась за столиками, рассчитанными на четверых, вшестером. Балаклавы держат на коленях. Некоторые неуверенно улыбаются, глядя на спины срочников, на которых белым написано «Мiлiцiя».
– Вас приглашает высокий военный чин, – говорит Андрей. – Он хочет с вами поговорить, но своего имени не назовет. Вам придется вернуться в Киев.
Мы с Андреем возвращаемся в Киев на машине, которую прислал за мной высокий военный чин. Андрей пристально смотрит на дорогу, приглаживая рукой коротко стриженные волосы и не переставая меня инструктировать.
– Не спрашивайте, как его зовут и кем он командует. Вы сами должны понимать, какое сейчас время и чем ему разговор с вами грозит. Вы можете написать, что только что были на базе «Барса», но больше ничего такого не пишите. Называйте его просто: офицер.
В кабинете офицера чувствуется пустота. Его кресло пусто. Сам он ждет меня, сидя за столиком для гостей. На столике же лежит его фуражка. Над креслом голая стена, или она кажется такой от привычки видеть в кабинетах на этом месте портреты руководителей и президентов. Сбоку от офицера садится Андрей и почти касается локтем его фуражки.
– Нас всех объединило одно: у нас был очень непорядочный президент, – говорит офицер, этим вступлением объясняя то, что сидит за одним столом с Андреем. – Тупой, необразованный зэк. У вас президент тоже плохой, – добавляет он. – Но он хотя бы офицер с вычищенной биографией. А у нашего биография очень нехорошая. Но когда ко мне пришли и сказали: «Выйди на баррикады и скажи, что ты уволился, кинь клич, чтоб к тебе присоединились другие офицеры», я ответил: «То есть вы хотите из меня предателя сделать? А что потом вы будете со мной делать – с таким хорошим?»
– Что такое предательство для офицера?
– Ну… видите ли… мне очень больно, когда заставляют принимать вторую или третью присягу. Я вторую присягу не принимал на Украине после того, как присягнул Советскому Союзу. Я в себе выработал такую мысль, чтобы как-то жить со всем этим. В первый раз я клялся защищать родину. Родина моя была большая, советская, но потом волею судьбы стала маленькой – Украиной. Я дал присягу народу и до сих пор ей верен. А сегодня… Хотите, я каждый день присягу буду давать? Это когда я был молодым офицером, для меня такое было невозможно.
– И кому вы хотите давать каждый день новую присягу?
– А кому хотите… Хотите – той власти. Хотите – этой. Завтра придет другая – дам другой. Главное, чтобы она не была такой, как предыдущая. Я уже давно не такой принципиальный.
– Как это?
– Как это?! Как это… Вот так это! Но… я считаю, что сейчас мне больше не надо никому присягать. Какой смысл? Я и так служу народу.
– А что вы думаете о тех военных, которые перешли на сторону России в Крыму?
– Я бы не наважився давать присягу другому государству. Зачем другому государству офицер-предатель? Чтобы выбросить его, как использованный мусор? Хотя… ну, наверное, никак я к ним не отношусь. Но вообще считаю, что это измена родине.
– Без оправданий?
– Сейчас все настолько… – он задерживает дыхание, – нечестно, – выдыхает, – что погибать ради этого, может, и не стоит? Может быть… Но хотя, если задуматься… Я долго думал над тем, как в Афгане большинство наших, чтобы не попасть в плен, стрелялись. Когда я был молодым, я думал, что так правильно. Но сейчас думаю: лучше бы сдавались.
– Вы так начали думать после того, как получили свой высокий чин?
– Да. Я сразу поставил себя на место их матерей. Сейчас мне дали в подчинение этих людей с Майдана. И у нас сразу… сильное непонимание друг друга. Они видели во мне врага изначально. Говорят: «Нам ничего от вас не надо, только дайте нам оружие, и мы поедем хоть сегодня, ляжем на границе и будем стрелять по российским танкам». Патриотизм очень высокий, – говорит он, бросив взгляд вбок, на коменданта сотен. – А я сказал: «Вы меня извините, но я не хочу быть начальником похоронной команды. Не хочу на ваших крестах рисовать трезубцы героев…»
– Трезубцы небесной тысячи, – поддакивает Андрей.
– «…Мне не нужен ваш героизм, если вы будете мертвыми, – продолжает офицер. – Мертвые герои никому не нужны. Моя задача – подготовить вас так, чтобы как можно больше из вас осталось в живых».
– Трудно поверить, что люди с Майдана могли принять от вас эту помощь, – говорю я, – что они стали выполнять ваши приказы. Вы их враг. И за право ненавидеть вас они, кажется, заплатили кровью?