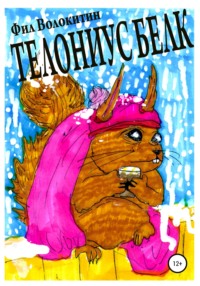полная версия
полная версияПолная версия
Ана Ананас и её криминальное прошлое
На стенках висело штук пятнадцать плакатов со старым французским кино, там где все персонажи носят пальто и на редкость суровы. Каждому из суровых французов кто-то располосовал глазки бритвочкой. Получилось, как будто они взирают на нас торжественно, с тайным смыслом. Наверняка поэтому и «киноклуб», догадалась я. Но потом всё-таки увидела старый кинопроектор и экран размером с салфетку. Под проектором, на пивном ящике сидел потасканный тип с едва пробивающимися усами. На вид лет четырнадцать. Глаза у парня были красными как барбарис.
Тут я поняла, что мне не приходилось видеть этого парня раньше. Как бы вам объяснить? Понимаете, мы здесь все ходим в одну школу. И не просто так эта школа разделена надвое, репербанские дети не просто так у всех на виду и не просто так они делятся на две категории. Я видела специальное дело о школьниках в руках нашей бабушки Дульсинеи. Там были обозначены наши имена и дурные привычки. Степень опасности наших перемещений тоже была обозначена. Если бы не эти карточки, мы никогда не узнали бы, что Ходжа Озбей поёт в хоре пожарников. Но этого барбарисного в списках не было. И в школе про него слыхом не слыхивали. Значит, он был не наш.
– Королёк Конинхен, – представил барбарисного типа Олли. – Кролик. Не подумай только что он у нас тут за главного.
Королёк недовольно сверкнул красными глазками.
– То есть, вы хотите сказать, что это и есть ваш так называемый кролик? – разочарованно спросила я.
– Да! – хором сказали ребята.
– И это ваш так называемый киноклуб? – протянула я.
– Да!
– Почему же я раньше не видела этого кролика?
– Он скрывается от полиции! – чувствовалось, что Ходжа просто перед ним трепетал.
– И его прошлое покриминальнее твоего, – гордо сказал Олли. – Покриминальней некоторых, что уж тут говорить!
После слов «криминальное прошлое» Королёк перевёл взгляд на меня. Всё еще без особого интереса, но уже с оттенком доброжелательности. Наконец, разгладив пальцами морщину как пластилин, Королёк пропищал с еле распознаваемым оттенком дружелюбия:
– Привет сокорешникам!
– Меня зовут Ана. – холодно ответила я.
– Это моя девушка, – подмигнул вдруг Ходжа и помахал Корольку рукой через моё же собственное плечо. Я с негодованием сбросила его руку.
– Меня зовут Ана Ананас, – поздоровалась ещё раз я, желая знать как к этому Корольку подкатить – по человечески или по кроличьи.
– Моё имя Кролик Королёк Конинхен.
И опровергая всё сказанное до этого Олли, Кролик добавил:
– Главный здесь я.
Мне было по барабану, кто главный. Всё равно сложившейся субординации в нашей банде я не понимала. Если это и была игра, то совсем детская. Будто игра в пряталки. Я не удивилась бы, если главным здесь оказался домашний Оллин карась или второстепенный персонаж из мультфильма «Якари». Ну, а Нож-для-Огурцов принимал субординацию к сердцу куда ближе, чем остальные. Он разобиделся и надулся. Все бросились подбадривать его, хлопать по плечу, говоря:
– Временно Олли! Временно, да, Королёк?
Тут Королёк Конинхен провозгласил:
– Какая разница, кто у нас главный? Вы не забыли, зачем мы вообще здесь собираемся!
После этого он предложил мне присесть на ящик. Сам оседлал полуразвалившийся барный стул и выдал с интонацией школьной училки:
– Начинаем как обычно. Внимание, ритуал. – Королёк махнал рукой, – Эх, да поехали что-ли. Эй! Аудио!
Никто не слушал. Ему пришлось ударить по столу рукой. Действия это не возымело. На столе, заваленном всякой всячиной, нашлась китайская палочка. Поколотив по столу китайской палочкой, Королёк получил некоторую порцию заинтересованности.
– Аудио! – заорал Королёк, так громко, что от стены оторвался кусок старых обоев. Бюдде, спохватившись, включил магнитофон. Он тут же завыл песню про то, что горит школа. В Гамбурге эта песня весьма популярна. Королёк потряс над головой большим глазированным цветочным горшком. Из горшка выпала сложенная втрое бумажка. Мы проводили её взглядами, а Королёк ещё и успел подстелить под неё кусок простыни кроваво-красного цвета
– Вот оно, – благовейно сказал Королёк, который после процедуры с простынёй благовейно закрыл глаза и потирал руки – Вот оно, завещание херра Павловского.
Завещание выглядело совершенно затрёпанным. Оно было сложено много раз, зачастую неправильно. А потом переложено заново. А потом ещё и ещё раз переложено, уже второпях. В результате получилось, что-то вроде пиратской карты, которой пользовались-пользовались, да и выкинули за ненадобностью. Вместо указания, где лежат сокровища, внутри было что то похожее на список для магазина. Слова были накорябаны нетерпеливой, уставшей от жизни рукой.
– С этого начинается у нас каждый день – шёпотом сказал Бюдде. – Кому то обязательно надо совершать перед встречами ритуал. Мы же здесь все разные! Зато ритуал у нас один и тот же.
– Вы каждый день вытряхиваете из цветочного горшка бумажку? – удивилась я.
Бюдде важно кивнул:
– Да. Это же завещание господина Павловского.
– А что, собственно, в нём? – спросила я громко. – Что в завещании-то?
Тут все посмотрели на меня с жалостью. Ходжа даже издал стон. Дескать, глупость моя переходит все возможные границы. А Королёк с интонацией заправского философа продекламировал:
– Кто эти люди? Зачем они приходят сюда. И кто их привёл?
– Я привёл. Это моя девушка… Ана Ананас, – упрямо повторил Ходжа. А потом быстро добавил: – Она глупая и много чего не знает!
Это было совсем неожиданно и даже обидно. Я решила, что пришла пора наступить ему на ногу посильнее. Но Ходжа буркнул мне на ухо:
– Так надо.
Тем временем, Королёк включил ещё один вариант песни про горящую школу, теперь уже на пластинке.
– Пластинки успокаивают, – сказал Королёк и бросил на меня хитрый взгляд. – Успокаивают, верно, Ана Ананас?
– Кого успокаивают? – нахохлился Олли. – Тебя? Ты ведёшь себя как заправский чёрт с граммофоном!
Он явно был недоволен. Всё, видать, оттого, что его не назвали главным.
– Крутятся, Олли-шмолли. –объяснил Королёк. – Потрескивают они, понимаешь? Отбрасывают тень, наконец. Игла ходит вверх вниз, разве не видно?
Пластинка и правда отбрасывала трепещущую тень на выкрашенную в зелёный цвет стенку. В ответ Олли картинно бухнулся с ногами на диван и включил телевизор. Показывали мульт про Якари. Вскрыв банку колы, Олли растянулся, занимая с ногами три места, как сделал бы уже вполне сложившийся Бармалей.
– В задницу спокойствие! В задницу всё. – провозгласил Олли бармалейским голосом. – Что там у нас на повестке? Новобранцы, – перечислял он, – проверка боем? Что там ещё?
Ходжа открыл блокнот.
– Пункт восьмой. Эманация кофейных хмырей. День первый. Новобранец освободительной армии Санкт-Паули Ананас показал себя с лучшей стороны, проявив недюжинное самообладание…
Я показала двумя пальцами на свои глаза и ткнула в ходжину сторону. Но Ходжа, не обращая внимания, продолжал:
– … что привело к некоторым сложностям в отношениях с родителями и отказом от родного дома. – Всё? – скучным голосом спросил Королёк.
– Да – захлопнул блокнот Ходжа.
– Как и ожидалось. Нечего тут обсуждать. Наш человек, ясное дело.
Моргнув своими барбарисными глазами, Королёк засунул пластинку обратно в конверт.
– Завтра идём на зачистку улиц. Пункт девятый – террор. Сегодня смотрим по телевизору только боевики и полицейские фильмы. Хотите, можете смотреть здесь. И хватит шептаться… – прикрикнул он на Олли с Ходжей. – Кто не остаётся на просмотр фильмов, покиньте, пожалуйста, киноклуб.
– Кролик, тут это самое… – озадаченно потёр голову Олли, – Мы ведь так не решили как себя с ними вести.
– Решили, – сказал Королёк. – Уличное насилие. С завтрашнего дня. Пусть оно завтра всех сплотит. И уравняет. А потом разберёмся.
– А если меня не уравняет, к примеру? – спросил Бюдде.
– Придётся тогда тебя другим способом уравнять! – показал кулак Королёк. Разговор на этом закончился и мы вышли на улицу.
8
Очередная попытка освоить карманный скейтборд Бюдде потонула в Оллином безразличии. Он утверждал, что женщинам можно лишь на заднем сидении машины сидеть и нельзя прикасаться к управлению даже велосипедом. Спорить с ним, дураком, не хотелось. В результате мы так и прошатались до конца дня, ничего не делая. Только к двум ночи принялись вяло подбрасывать войлочный мяч. Этим мы вызывали интерес Траурного Эммериха, присевшего рядом. Эммерих собирался запузырить хлопальщика другого в честь окончания работы. С пузырьком в руке, Траурный Эммерих проконсультировал нас дважды, а затем, поджав ноги и устроившись на ступеньке что твой сыч, принялся смотреть, как мы орудуем тремя его мячками одновременно.
– У вас лёгкая рука, Ананас, – сказал он, когда мне первый раз удалось не попасть себе на голову. – У вас всё получится.
Но Олли и это пришлось не по нраву.
Хлопая вторым хлопальщиком, Эммерих отправился спать. А куда? Туда, куда одному лишь Эммериху известно. Жонглировать Эммерих заканчивал поздно. Машинам ведь всё равно когда ездить мимо Санкт-Паули. Я едва спохватилась. Судя брезжившему рассвету над «Вахтой Давида», шёл уже третий час. Папа в такое время обычно уже спал, особенно если был под влиянием новостей и лёгкого ужина. На этот раз, я решила не заходить домой. Хотелось воспользоваться спальником, не зря же я с ним возилась!
Спальник так и валялся в кустах акации. А Ходжа взялся помочь дотащить его до тихого палисадника рядом с церковью. По дороге ещё пенку где-то нашел. В общем, старался казаться галантным.
Мы пёрли неподъёмный спальник с тяжеленной прорезиненной пенкой прямо по ночному Репербану. Считается, что заполночь детям ходить здесь нельзя. Приезжий народ удивляется, когда узнаёт, что мы не карлики из цирка «Ронкалли». Почему то все туристы уверены, что детей на Репербане нет. Неправда – вот мы, прём по ночному Репербану матрас. Ночью улица у нас горит как новогодняя ёлка. Пару раз кто-то из небармалейских ночных туристов поинтересовался – не поздновато ли для детей? Но мы оставили этот вопрос внимания.
Я то и дело оглядывалась, пытаясь понять, что это рядом со мной так бурлит. Наконец до меня дошло. Это в организме у Ходжи закипала ревность. Закипала она оттого, что я наотрез отказалась от того, чтобы называться его девушкой (а я бы отказалась, даже если мне пришлось бы ради этого руку Ходжину отпилить, а вместе с рукой ещё и и голову). Теперь он хотел загладить свою вину идиотскими оправданиями.
– Вот смотри, – объяснял он. – Я не могу ничего поделать. Я говорю «девушка».
И рука поднимается сама собой.
Тут, правда, рука его поднялась сама собой. Пришлось сбросить её побыстрее.
– С языка слетает – ты моя девушка и всё тут. – продолжал Ходжа, – Чем я могу загладить свою вину, не знаю. Но ты только скажи…
– Забудем, – сказала я, сбрасывая Ходжину руку в очередной раз, – расскажи мне лучше что там, в завещании херра Павловского. И куда это мы завтра идём?
– А я и сам плохо помню текст завещания – неожиданно сказал Ходжа, – Считается, что весь этот сыр-бор все должны знать наизусть. Вроде как, там написано, что когда-нибудь вместо общественной гавани здесь будет кофейня. А вместо пап и мам будет татуированный чёрт c граммофоном!
Я попыталась представить себе татуированного чёрта с граммофоном в руке. Получалось не очень. Что еще более странно, получалось очень похоже на этого Королька. Дело, может, в пластинке, которую он ставил дело? Ну и что, подумаешь пластинка, что в этом такого, в конце-то концов – ну, чёрт, ну с граммофоном в руке? А татуировки? У моего отца тоже татуировки имеются – на спине, названия групп из репертуара «Добро пожаловать». У каждого из Бармалеев такие есть. Что с ними не так? Пластинки господин Веттер-перемен тоже имел, хоть и не слушал. В общем, попадал под определение «чёрт грамофонный татуированный» на сто процентов. Может это Павловский сам про себя написал?
– Завтра здесь будет настоящий разбой, – пообещал Ходжа, выковыривая из носа кровоподтёк. – В прямом смысле слова ужасный. Это я обещаю. Будем делать всё возможное, чтобы предсказание херра Павловского никогда не сбывалось.
Тут я попрощалась и пошла спать. Палисадник у церкви оказался запертым. Пришлось залечь на газоне.
9
Спать под звёздами на весеннем мокром газоне, оказалось невероятно сложным делом. Ничего общего с романтическим приключением под луной эта ночёвка не имела. Интересно, как спят на улицах бездомные, думала я, а сама ворочаясь на траве. Как спят опустившиеся бармалеи, например, те, что живут на улице с матрасами, собаками и стаканами от пепси-колы в качестве кошелька? У меня не вышло. Я срезалась на самом простом – не получалось закрыть глаза и расслабиться. Делать вид, что спишь, разумеется, кое как ещё можно. Но выспаться по-нормальному ну совершенно никак.
Ладно, я сама виновата, умудрившись лечь под фонарь без отражателя. Он был единственный такой яркий на всю округу. Но это ещё можно было предугадать, а вот что последовало за этим – нет.
В три часа ночи вдруг заработали удивительные поливательные фонтанчики из тех, что помогают декоративной капусте к лету дозреть. Я лежала под холодным душем, сжимала зубы до хруста, но решила доказать, что Ана Ананас не сдаётся ни при каких обстоятельствах. Только, когда трава превратилась в сплошную мокрючую лужу, я поняла, что пора линять. Перебегая из одного места в другое, я нашла себе сухое местечко. Там меня начал донимать лис, охотящийся на малиновку. Оба они бузили до тех пор, пока лис малиновку не придушил. После этого волшебные фонтанчики сработали повторно. Тут уж моё терпение лопнуло окончательно. Я резко встала и не обнаружив сна ни в одном глазу, почесала по Репербану без матраса, ругаясь себе под нос. Теперь я уж точно была похожа на отъявленного бездомного. Меня поддерживало лишь то, что дом у меня всё-таки был. Я три раза нажала на кнопку с фамилией Веттер-перемен, не отрывая пальца от той, что посредине. Дверь под этим воздействием открылась, и я прокралась к себе на второй этаж. Там я сбросила куртку и легла спать под ванну.
Конечно, под ванной было сыро. Но не сырее, чем на улице в пять утра. Особенно, если сравнивать с душем из поливальных фонтанчиков. Ванну вы нашу всё равно не представите, поэтому объясняю. Она огромная, старинная, на высоких ножках. Такую конструкцию не так часто встретишь в современных домах. Каждый, кто приходил в гости и мыл руки после туалета, считал нужным прищёлкнуть языком и сказать, что ванн с такими высокими ножками больше не делают.
Забравшись под неё, я убедила себя в том, что когда я стану взрослой, мне будет легче чем сейчас. С этой мыслью, я сладко заснула. В моём сне опять была Яна Эк. Красивая, в лакричном чёрном плаще. Пахла она, соответственно, тоже лакрицей.
– Скоро ли придёт чёрт с граммофоном в руке? – на всякий случай спросила я у Яны.
– Скоро. Он заберёт тебя с собой, – холодно сказала она. – И мы, наконец, увидимся.
– Когда это произойдёт? Сегодня утром?
– Вот ещё, – прошипела Яна Эк. – Не стоит портить такое прекрасное утро.
Яна Эк оказалась права – воскресное утро оказалось прекрасным. Папа спал как сурок, а я с важным видом разгуливала по квартире. Обычно я хожу по лестнице так, чтобы ненароком не скрипнуть. Но сейчас, от радости, я обезумела настолько, что даже съехала по лестнице кувырком. Ещё я думала о том, что надо-таки раздобыть скейтбордную доску. Может и не такую ловкую и скоростную как у Бюдде, но чтобы чуть что, и ты уже прибыл на место.
Надо сказать, когда я что-то хочу по настоящему, а не прикалываюсь, значит мне весело. Я взлетела обратно на второй этаж, с топотом пьяных слонов, даже не удосужившись перемахнуть через скрипучие ступеньки. Ступенькам было сто лет в обед. Они выполняли функцию дверного звонка для тех, кому лень его устанавливать.
– Папа! – закричала я в открытую дверь. – Я ушла на разбой! Я буду там… где может произойти непреднамеренное убийство!
Как ожидалось, папа снова заспал информацию. А за спиной послышалось:
– Эхм.
Я обернулась и увидела, что за мной пристально следит левый глаз Дульсинеи Тобольской. Левый – потому что дверь открывалась вовнутрь, и правым глазом смотреть неудобно. А Дульсинея, как и все полицейские (кроме тех, что были избраны для неожиданных ситуаций) была хорошо натренированной правшой. И если понадобилось бы стрелять, то стрелять она стала бы только справа.
– Шутка, госпожа Шпиннеман, – как можно шире улыбнулась я
– Шутка ли в десять утра? – патетически прогремела Тобольская на весь этаж. То был зычный голос заправского полицейского. – Шутка ли в воскресенье? Шутка ли – орать когда Вахта Давида отходит ко сну! Ничего нового в голову не пришло, чтобы будить всех жильцов на периметре? Я посажу тебя за незаконное проникновение с оружием. Хотя ты без оружия… (тут Дульсинея задумалась) … но всё равно. Ты ведь ушла из дома? Да? Я тебя правильно понимаю?
Я кивнула против собственной воли, раскрыла все карты – ушла из дому, да.
– Вот и не возвращайся никогда!
Дульсинея захлопнула дверь. Я шумно выдохнула. Я не ожидала от полиции такой прыти. Стоило мне только поспать под окнами часа два, как вахта Давида об этом узнаёт и оказывается при этом информирована лучше меня…
В одном Дульсинея Тобольская была права – без оружия выходить из дому не стоило.
Вернувшись домой за оружием, я чуть было не наступила на лежащую поперек собственной кровати Берту Штерн. Голая, худая и извивающаяся точно глист, она спала навзничь. По спине Берты вилась татуировка «Все овцы, кроме мамы». Поспешив плюнуть в её сторону три раза, я предпочла немедленно забыть о том, что кровать моя, а Берта совершенно голая. Я ещё помнила, что сама виновата. Я ушла из дому. Теперь здесь даже кровать не моя. И вахта Давида об этом знает.
Так, оружие… Мне явно был нужен нож. Не для огурцов, разумеется, ха-ха. Столовый!… но, пожалуй, лучше даже выбрать что-нибудь пострашнее.
Я обыскала весь дом. Никаких столовых ножей не нашла. Должно быть, папа опять забыл их на первом этаже в общей посудомойке. В утреннем солнечном свете я проклинала нашу полупустую квартиру, в которой никогда ничего не найти. Когда у меня будет куча денег, все мои вещи будут лежать в специальных ящичках. Распределено будет всё – от носков, до таблеток от посудомоечной машины. Даже ничего должно лежать в специальном ящичке с надписью «Ничего».
Когда нибудь я буду жить одна… Но, в любом случае, это произойдёт не так скоро. Долго задумываться о разных там перспективах на будущее я не могла себе позволить. Обойдясь одним единственным ящиком, который у нас был, я вынула папин громобойный пугач. Пускай отечественных спичек к нему нет, с пугачом в руке было спокойнее.
Надвинув на брови кепку, и развернув её козырьком назад, я тихо прокралась мимо дверей бабушки Дульсинеи Тобольской. Уличная дверь была открыта. Я бесшумно миновала её и выскочила на воскресный пустой Репербан.
10
– Долго ты спишь, – недовольно сказал Нож-для-Огурцов.
А Бюдде, забрасывая в рот пачку жвачку, добавил:
– Мы уже полдела сделали.
Я возмутилась:
– Что это значит «полдела сделали»?
– Извини, о тебе мы забыли совсем, – сказал Ходжа.
Я выставила вперёд пугач. Но Олли посоветовал мне его спрятать.
– Воскресное утро, – прошипел он, – все спят. Никаких выстрелов. Договорились, девочка-маньяк?
– Договорились.
С ними был парень, которого я тоже видела на Репербане впервые. Длинный и тощий, типичная рыбья кость в длинном свитере, он смотрел на нас свысока. Но для такого взгляда у него был слишком дурацкий свитер. Форменный, синий и ещё к нему была пристрочена нашивка «клуб домоводства Бостельбек».
Клуб домоводства это хорошо, думала я. Понятно, по крайней мере, откуда этого типа взял Олли. Должно быть, он тоже был ему друг, вроде Королька Коннинхена. Но почему именно Бостельбек? Неужели в тайне от всех Олли посещал кружки домоводства?
– А знаете, я бариста-радар, – хвастался длинный домовод из Бостельбека. – У меня чутьё на такие дела. А вы знаете, что такое чутьё? Вот то-то и оно, что не знаете!
В конце концов, юный бариста-радар треснулся со всего размаха лицом о фонарный столб. Чутья у него поубавилось. А потом он и вовсе ушёл, хотя мы старались над ним не смеяться.
– Этот сухарь был лишним, – сухо прокомментировал Ходжа его уход. – Слишком много трепался.
– Воистину у него был видок трепача! – согласился Бюдде. – Больше мы подкрепление из Больстенбека не позовём.
– Пожалуй, да, – засуетился Олли. – мы не можем держать среди нас дурацкого трепача из Больстенбека. Кто сказал, что разбойное нападение уравняет всех на свете? На свете существует только Санкт-Паули! В дальнейшем мы будем из этого исходить. Я так и скажу Кролику. Никакого Больстенбека! Я на всякий случай скрестила пальцы.
Если вы считаете, что охота на барист даётся легко, то вы ошибаетесь. На пустынном воскресном Репербане их выследить совсем нелегко. Спустя час бессмысленного шатания мы вдруг увидели Динга, который лакомился мороженым. Олли сказал, что мы его выследили. Но Динг по любому должен был оказаться возле кафе. Ходить по заведениям с пачкой листовок – его работа.
Бородатый мальчик был одет в узкие джинсы и футболку с надписью «Кофе хочется». На носу его небрежно болтались очки, которые Ходжа сходу определил как «иронические». Что-то ироническое в образе Динга действительно было. Без смеха в его сторону было невозможно смотреть.
Поедая мороженое, Динг нервничал. Он высунул язык наружу так далеко, что слюна капала на воротник. Листовки в его руках выглядели совершенно измочаленными. Казалось, что-то должно было произойти с секунды на секунду. И вот, наконец, произошло:
– Бросай мороженку. – гаркнул Барсук.
– Узнаёшь? – почти дружелюбно спросил Олли.
Динг снял иронические очки, прищурился, но вместо того, чтобы что-то сказать, вдруг припустил бегом по одной из велосипедных дорожкек.
– Внимание всем постам, – сказал Олли в телефон, держа его на манер рации – объект убегает. Кто нибудь слышит меня? Комиссар!
На комиссара откликнулся Ходжа Озбей. Благодаря нему, Динг был пойман рядом с музеем эротического искусства. Позорно споткнувшись на пачке своих же листовок, он рассадил ногу. Теперь Динг недовольно сидел, разминая её и подпирая спиной рекламу «приапического фламенко». Мы окружили его, прижали его к стене и сурово ждали обвинения.
– Смерть бариста! – вынес Олли приговор.
– Дети, – сказал басом Динг. – Пожалейте меня. Да, я сам виноват в том, что произошло. Уж так получилось.
– Позвольте, – галантно сказал на это Олли Нож-для-Огурцов и перетянул баристе запястье пушистым наручником (они раздавались бесплатно рядом с музеем в рекламных целях). Затем он надел ему тёмные очки, чтобы тот ненароком кого-нибудь не загипнотизировал. В них Динг оказался похожим на Терминатора.
– Что мы будем с ним делать? – шепнула я. – Оставим здесь?
– Зачем? – скривился Бюдде. – Лучше отправим к таким же злодеям как он.
– На тот свет?
Я не думала, что на свете есть так уж много мест, где таких как Динг не считают злодеями.
– Пока нет, – извиняющимся голосом повторил Олли.
А Ходжа рассердился:
– Женщина! Помоги конвоировать злодея. Не задавай лишних вопросов.
Он пнул Динга так, чтобы он шёл вперёд. Динг потрусил вперёд. Мы шли, как будто собаку выгуливали. На подходе к киноклубу, сделали вид, что интересуемся недавно открывшейся сосисочной «Карри 24». Динга мы держали под обе руки по очереди, стараясь ни в коем случае не смотреть ему в глаза. Главное, чтобы он свой гипноз в ход не пустил. Уж мы-то знали, что это сработает.
Убедившись в том, что воскресным утром народу на улицах нет, банда спустилась вниз. В мрачном подвале, располагавшемся ещё ниже полуподвального киноклуба было холодно до задрыга. По сравнению с киноклубом, показавшимся мне довольно уютным, подвал был какой-то пещерой. Как зал для физкультуры или ангар какой нибудь. Потолок вот только был низковат, а вообще – играй хоть в футбол, хоть в баскетбол, хоть марафоны на дальние дистанции бегай.
Ходжа посветил фонариком в угол. Там сидели двое барист – бородатый и небородатый. Они умоляюще заламывали вверх руки в пушистых наручниках. Бородатый оказался давешним Массимильяном из «Чачи». Второй был средней, непримечательной внешности. Ходжа утверждал, что приметил его в первую ночь в туалете, пока Олли требовал себе кофе налить. Баристы хлебали Ходжины экспериментальные пиццы прямо с пола, нагнувшись над мисочками, как комнатные собачки.
– Меня ждёт блинная, – бормотал незнакомый тип со шрамированным лицом, но без намёка на бороду. – Меня ждёт блинная… Всего лишь блинная… Никакого кофе.