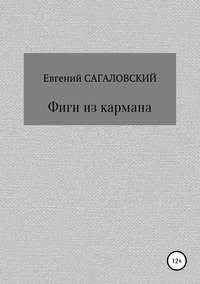полная версия
полная версияА это вы читали?

Евгений Сагаловский
А это вы читали?
Нечто вроде предисловия
Данная книга не была написана в обычном смысле этого слова. Ленивый автор попросту сгреб под одну обложку свои тексты, опубликованные в разное время на страницах “Книжного обозрения”, “Независимой газеты” и “Политического журнала”. Было бы не совсем точно называть их книжными рецензиями – автор, которому всегда было тесно в пределах разумного, не ограничивал себя общепринятыми для материалов такого рода правилами, а по ходу изложения высказывал собственные соображения по тому или иному поводу.
Книги, о которых идет речь, – самого различного характера: мемуары, документалистика, психология, политика и еще всякое разное, вплоть до беллетристики.
Автор тешит себя надеждой, что подобный сборник может представлять интерес для современного читателя. Уже хотя бы потому, что рассматриваемые книги, независимо от года их издания, несомненно, заслуживают внимания. А многие серьезные проблемы, затрагиваемые в них, к сожалению, и сегодня вполне актуальны.
О книгах, их авторах и не только
Долгое возвращение Алданова
Алданов М. Сочинения. В 6 книгах. – М.: Изд-во “Новости”, 1994.
Приступая к этим заметкам, я снял с полки Литературный энциклопедический словарь. Раскрыл на нужной странице – и не поверил своим глазам. В специализированном справочном издании, вышедшем уже в перестроечные времена, в 1987 г., – никакого упоминания об Алданове. Отсутствовали какие-либо сведения о писателе и в СЭС, издания 1988 г.
Свою ошибку я понял быстро: оба словаря сдавались в набор в 1984 г., за четыре года до первой публикации Алданова на родине. Разумеется, бесполезно было искать в советских изданиях имя писателя – принципиального противника социальных революций, утверждавшего, что “призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление”. Кто же мог осмелиться в стране победившего социализма даже упоминать о человеке, позволявшем себе задолго до нашей пресловутой гласности проводить параллели между Лениным и Сталиным – с одной стороны и Гитлером – с другой!
Марк Александрович Ландау (Алданов – псевдоним, анаграмма фамилии) родился в 1886 г. в Киеве, в семье сахаропромышленника. Получил блестящее образование: классическая гимназия, Киевский университет, который он закончил сразу по двум факультетам – правовому и физико-математическому (отделение химии). В том же году – первая публикация: научная статья в области теории растворов. (Вообще, к химии Алданов время от времени возвращался в течение всей жизни, утверждая, что периодическое переключение на научно-исследовательскую работу во всех отношениях полезно для писателя.)
Вскоре после окончания университета он уезжает в Париж для продолжения образования, однако с началом Первой мировой войны возвращается в Россию. Принимает участие в разработке средств защиты от химического оружия.
Когда грянула социалистическая революция, Алданов без колебаний сделал свой выбор, сразу и навсегда определив свое место в стане ее идейных противников. Если даже симпатизировавший Ленину и в свое время реально помогавший большевикам Горький в 1917 – 1918 гг. немилосердно бичевал новую власть в статьях, составивших впоследствии сборник “Несвоевременные мысли”, то уж таким, как Бунин, Мережковский, Гиппиус, Алданов, сам бог велел!
Острому аналитическому уму Алданова были в принципе чужды какие-либо иллюзии, причем, если, допустим, Бунин в “Окаянных днях” или Гиппиус в “Петербургском дневнике” писали главным образом о конкретике происходящего кошмара, то молодой ученый, неожиданно для самого себя превратившийся в политического публициста, в своей книге “Армагеддон” препарировал и анализировал революционные идеи, делая четкие, недвусмысленные выводы. Такие умники большевикам явно не годились, даже в попутчики. Крамольная книга была, естественно, уничтожена, а ее автору пришлось в 1919 г. навсегда покинуть родину.
“Эмиграция – не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция – несчастье”. Эти слова из алдановского очерка о дюке де Ришелье, легендарном первом градоначальнике Одессы, – одновременно обо всех русских эмигрантах первой волны, и не только первой, и не только русских. Но если Ришелье после долгих лет службы в России все-таки вернулся на землю любимой Франции и даже стал председателем совета министров, то Алданов, как и большинство его соотечественников, не по своей воле оставивших родину, мог возвращаться к ней только мыслями.
… Париж, Берлин, снова Париж, Нью-Йорк, Ницца.
Литературная известность пришла к Марку Алданову сразу после публикации в 1921 г. исторической повести о Наполеоне “Святая Елена, маленький остров” и уже не оставляла его до конца жизни. Достаточно сказать, что популярность Алданова среди читающей публики русской эмиграции была выше, чем у Бунина и Набокова, и это при том, что писатель всегда был далек от какой-либо конъюнктурности.
Свободно владея основными европейскими языками, Алданов, несомненно, мог бы значительно расширить свою читательскую аудиторию, став, допустим, франкоязычным писателем. Однако этот вопрос он, похоже, решил для себя сразу: по духу – космополит в лучшем значении этого слова, всю жизнь писал только на русском. Подстраиваться под кого-то, вообще что-то делать вопреки собственным убеждениям – нет, это был не его стиль. Объективный свидетель своего времени, Алданов с равно убийственной иронией писал о Сталине и Ллойд-Джордже, о большевизме и западном образе жизни. Да и предреволюционную Россию, мягко выражаясь, не идеализировал. В общем, всем сестрам – по серьгам. И по ушам заодно! Интеллигентно, не снимая белых перчаток. Кому же это понравится!.. Люди, подобные Алданову, обречены быть, в большей или меньшей степени, чужими даже среди своих. Вот цитата из воспоминаний об Алданове хорошо его знавшего музыковеда и мемуариста Л. Сабанеева: “Он был пережитком эпохи едва ли не шестидесятых годов прошлого века, и его культурный горизонт и идеалы ближе всего идеалам той России – либеральной, но умеренной, культурной и с высокими нравственными устоями, свободомыслящей в области умозрения и политики…” И далее: “Останется навсегда в памяти его моральный облик изумительной чистоты и благородства”.
Энциклопедически образованный человек, Марк Алданов выбрал для себя в качестве главной точки приложения своего литературного таланта русскую и европейскую историю ХIХ – ХХ столетий.
В русской литературе всегда было более чем достаточно исторических романистов – от Загоскина и Лажечникова до Пикуля. Среди массы откровенно бездарных, графоманских и конъюнктурных сочинений иногда попадается кое-что вполне приличное, а изредка даже – вершины, наподобие “Петра Первого” А. Толстого. Однако при всей несхожести манер письма и и масштабов дарования подавляющее большинство авторов исторических романов работали с материалом по известному методу А. Дюма, который, по его собственному признанию, рассматривал историю в качестве вешалки для развешивания своих сюжетов.
Такой сугубо беллетристический подход был для Алданова категорически неприемлем. Его основной принцип – полная историческая достоверность за счет максимального использования документов и свидетельств очевидцев, предельно возможное, выражаясь математическим языком, сужение доверительного интервала. Непревзойденный мастер исторического очерка, Алданов и в своей исторической прозе остается ученым, не позволяющим себе мало-мальски существенных отклонений от реальности. Эта характерная особенность не раз отмечалась видными историками- профессионалами. При этом писателю, принципиально избегающему исторической “клюквы” и тем более “клубнички”, столь любезной сердцу массового потребителя низкопробного “исторического” чтива, неизменно удается поддерживать читательский интерес к описываемым событиям (конечно, речь идет о серьезном читателе). Алданов умеет виртуозно строить сюжет, искусно вплетает в повествование интереснейшие исторические документы и детали. Недаром огромное количество времени он проводил в библиотеках, неустанно отыскивая и тщательно отбирая драгоценные находки для своих книг.
Однако Алданов не был бы Алдановым, если бы ограничивался лишь описанием внешней стороны событий. Это ему просто было бы неинтересно. И если Дюма использовал историю как вешалку для своих захватывающих сюжетов, то Алданов рассматривал ее в первую очередь с точки зрения философа и моралиста. Исторический материал давал возможность его отточенному уму ученого продуцировать глубокие рассуждения о непреходящих ценностях, о вечных человеческих проблемах. Свидетель своего жестокого и страшного века, “века-волкодава”, как его с достижимой лишь поэту точностью определил О. Мандельштам, Марк Алданов мучительно размышлял и внешне бесстрастно писал о Добре и Зле, Любви и Ненависти, Народе и Власти, Жизни и Смерти. Материалов для этого в человеческой истории всегда было с избытком. Он писал о Марате и Ганди, о Ленине и российских императорах, о Байроне и Бетховене… О ком только он не писал! И как же неожиданно современно звучат сегодня, например, строки, случайно выхваченные взглядом на странице раскрытого наугад тома: “…Воронцов-Дашков не верил в устрашающее действие казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов”. Иди – такие, опубликованные впервые в 1927 г.: “В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования… Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго”.
Алданов успел сделать чрезвычайно много, и мы сегодня фактически только начинаем открывать его для себя.
Весьма любопытен разброс мнений по поводу того, что считать наиболее ценным в алдановском творчестве: одни отдают предпочтение романам, другие – очеркам и публицистике, сам же писатель на полном серьезе называл лучшим своим произведением научную монографию “Актинохимия”.
Первое в России собрание сочинений Алданова в 6 томах вышло в 1991 г. литературным приложением к журналу “Огонек” и включало, главным образом, крупномасштабные прозведения, рассчитанные на относительно широкую читательскую аудиторию. Новый шеститомник издательства “Новости” значительно более разнообразен по составу и уже поэтому гораздо более интересен. На этот раз из обширнейшего алдановского наследия (по приблизительным подсчетам, полное собрание сочинений писателя составило бы порядка 40 томов) отобраны, помимо двух романов и двух повестей, еще два тома исторических очерков, значительное количество рассказов, пьеса, сборник философских диалогов и статьи о литературе. Тираж нового издания – 15 тыс. экз. (для сравнения – “огоньковский” шеститомник имел тираж 760 тыс. экз.), и, видимо, это оправданно. Дело в том, что, как верно заметил Л. Сабанеев, произведения Алданова “по природе своей – произведения для немногих”.Разумеется, Алданов – не Пикуль. Нынешнему массовому читателю он, вероятно, и вовсе не нужен. Какое значение для него имеет то обстоятельство, что Алданова чрезвычайно высоко ценили Г. Адамович и Г. Иванов, А. Ремизов и Б. Зайцев, Р. Гуль и В. Набоков! Или – тот мелкий факт, что сверхвзыскательный И. Бунин неоднократно выдвигал Алданова на Нобелевскую премию! Да наш замечательный массовый читатель и имен-то этих не знает, ну, разве что Набокова (благодаря “Лолите”) да про Бунина, наверное, краем уха слышал. Остается только надеяться на то, что все еще может измениться.
Рискуя быть обвиненным в неумеренном цитировании, все-таки приведу еще слова из заметок Г. Адамовича “Мои встречи с Алдановым”: “… это был редкий человек, и даже больше, чем редкий: это был человек в своем роде единственный. За всю свою жизнь я не могу вспомнить никого, кто в памяти моей оставил бы след… нет, не то чтобы исключительно яркий, ослепительный, резкий, нет, тут нужны другие определения: след светлый и ровный, без вспышек, но и без неверного мерцания, т. е. воспоминание о человеке, которому хотелось бы в последний раз, на прощанье, крепко пожать руку, поблагодарить за встречу с ним, за образ, от него оставшийся”.
А что касается Нобелевской премии, которую Алданов так и не получил… Пожалуй, это лишнее подтверждение излюбленной алдановской мысли, неизменно проходящей чуть ли не через все его исторические произведения, – мысли о решающей роли случая в истории. Мало ли кому по разным причинам не суждено было написать и произнести Нобелевскую речь! Перечень таких не-лауреатов, как писателей, так и ученых, выглядел бы не менее внушительно, чем список лауреатов. И, наверное, открывался бы он именем боготворимого Алдановым Л. Толстого…
И напоследок – простые и горькие алдановские слова: “Через тысячу лет любой школьник будет знать в тысячу раз больше меня. Мир же станет еще непонятнее, даже если не спрашивать, зачем он существует… Чем больше будем знать, тем понятнее все будет глупцам, тем непонятнее умным и тем тяжелее”.
Давид Самойлов: превращение в прозу
Д. Самойлов. Памятные записки. – М.: “Международные отношения”, 1995.
“Один” пишем – “два” в уме… Беря в руки книгу прозы Давида Самойлова, вспоминаешь, конечно, в первую очередь, его стихи. Хрестоматийное, известное каждому, кто хоть мало-мальски знаком с русской поэзией: “Люблю обычные слова, / Как неизведанные страны, / Они понятны лишь сперва, / Потом значенья их туманны. / Их протирают, как стекло, / И в этом – наше ремесло”. Или: “Перебирая наши даты, / Я обращаюсь к тем ребятам, / Что в сорок первом шли в солдаты / И в гуманисты в сорок пятом”.
Повторять, что Самойлов – значительное явление русской литературы, – ломиться в открытую дверь. Конечно, прежде всего он – поэт, но вспомните: “Учусь писать у русской прозы, / Влюблен в ее просторный слог, / Чтобы потом, как речь сквозь слезы, / Я сам в стихи пробиться мог”. В этих самойловских строках – отношение настоящего поэта к прозе как к способу точного отражения мира, обладающему в этом отношении несравненно более широкими возможностями, чем самая гениальная поэзия.
В предисловии к “Памятным запискам” составитель книги Галина Медведева, самый близкий поэту человек, объясняет его обращение к прозе. Внешний толчок – пребывание Самойлова в 1969 году в больнице, воспринимаемой им как клетка, ограничивающая пространство передвижения и общения. Настоящая же причина – ясное осознание того, что “весь опыт не умещается в стихи”. А клетка больничной палаты – всего лишь модель другой, огромной и страшной клетки, слишком хорошо знакомой всем нам. И – вечная необходимость нравственного выбора… Человек, далекий от непосредственного участия в политике, Самойлов недвусмысленно подтвердил свой выбор, поставив подпись под письмом в защиту Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова. По тем временам этого было достаточно – рассыпается набор одного сборника стихов, вылетает из темплана другой…
И Давид Самойлов спасает себя единственным достойным способом. Новые стихи, переводы, “Книга о русской рифме”… А параллельно – пусть в стол, для себя, для близких людей – проза. В 1971 году появляется запись в дневнике: “Укреплялся в мыслях о книге опыта”. Жанр прозаических опытов Самойлова Лидия Чуковская определила просто: “Былое и думы”.
Постепенно из, казалось бы, достаточно разнородных фрагментов стали вырисовываться очертания общей конструкции, связанной единым замыслом. В принципе – ничего нового: то, что называется “о времени и о себе”. Литература такого рода – это всегда попытка, с одной стороны, увидеть Время сквозь призму собственного опыта, а с другой – понять собственное “я”, увидев себя самого, отраженного в зыбком зеркале Времени.
Книга прозы Давида Самойлова складывалась на протяжении 20 лет и хронологически охватывает период с начала 20-х до конца 80-х. По свидетельству Галины Медведевой, самойлов весьма критически относился к себе как к прозаику и многие главы неоднократно переписывал – очевидно, добивался той же точности выражения мысли, что всегда была присуща его лучшим стихам.
Основной объем книги приходится на автобиографические записи, связанные с портретами самых разных людей. В главах, посвященных детским и школьным годам, – это родственники, соседи по дому, друзья детства. При этом заметки мемуарного характера постоянно перемежаются публицистическими фрагментами (например, рассказ о собственной семье перетекает в размышления о российском еврействе, диффундировавшем в русскую нацию).
Главы о периоде ифлийской юности включают краткие запоминающиеся портретные зарисовки молодых поэтов и их учителей. Павел Коган и Михаил Кульчицкий, Борис Слуцкий и Сергей Наровчатов, Николай Глазков. А еще – Сергей Радциг, Леонид Пинский, Михаил Лифшиц, Илья Сельвинский… Крупные, яркие фигуры, легендарные личности. И опять-таки: на мемуарном фоне – неожиданные мысли, точные наблюдения. Например, вспоминая о чтении курса эстетики Михаилом Лифшицем, Самойлов замечает: “Борьба с модернизмом, к которому примыкала вся основная западная, а во многом и русская литература 20 – 30-х годов, была первым становлением нынешней “традиционалистской” и даже “почвеннической” эстетики… Казалось тогда, что модернизм, отрицающий традиционные нормы искусства, ведет к фашизму, годится ему в эстетику. Опыт сорока с лишним лет развития идей показал, что теория реализма и традиционализма может привести к тому же. Видно, не в эстетике дело”.
Рассказывая о войне, которую он прошел в действующей армии, Самойлов, глубокий знаток русской истории, размышляет о характерных чертах русского народа, о том, что называется национальным менталитетом: “Это русский фатализм, неверие в прочность счастья, податливость перед насилием власти, компенсируемая жертвенным сопротивлением внешнему нашествию, безудержные выплески щедрости и гнева, умение ждать, мириться и, подспудно чувствуя неправомерность ожидания и примирения, предаваться жесточайшим мучениям совести, самоосуждению, внутреннему самоистязанию”. Эти черты, по мнению Самойлова, порождены извечными действующими факторами русской истории, “безжалостной мощью и своеволием власти, беззаконием, скудостью быта”.
В книге нет публицистики в чистом виде. Даже в работе “Литература и общественное движение 50 – 60-х годов”, бесспорно, значительной именно в этом отношении, автор сохраняет свой стиль. Анализ событий, общественных явлений тесно переплетается с эскизными, а иногда и рельефными изображениями персоналий, меткими характеристиками. Резкие, четкие наброски, неожиданные ракурсы: Сталин и Хрущев, Ахматова и Пастернак, Эренбург и Леонид Мартынов, Твардовский и Симонов, Евтушенко и Вознесенский, Шукшин…
Отдельная небольшая глава “Александр Исаевич” представляет собой интереснейшие, хотя и не всегда бесспорные суждения о Солженицыне как личности и явлении литературы и общественной жизни. Оказывается, в свое время А. И. предлагал Самойлову перенести дискуссию в самиздат, но тот отказался, хорошо представляя себе исход интеллектуального поединка с учетом разницы в “весовых категориях”. По свидетельству Медведевой, Давид Самойлов и не стремился к поспешному обнародованию своих вопросов к “властителю дум” – гораздо более важным ему представлялось уяснение собственных позиций. Вот только одна цитата из самойловских заметок о Солженицыне: “Тот народ о котором мечтает А. И., сегодня фикция, мечта, прошедший день. К нему не вернется Россия, даже если сядут все за прялки, за резных медведей, за палехскую роспись. Мужик нынешний производить без корысти не станет. В этом, извращенно, правда, выражается новое его достоинство. Он спекулировать и шабашничать готов и станет делать это даже под малиновый звон, перекрестившись. Он делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он научится уважать духовное начало России, то есть ее интеллигенцию, столь не любезную А. И.”
Последний, наиболее концентрированный по мысли раздел книги назван составителем “Эссе”. Предельная четкость суждений (не имеющая ничего общего с безапелляционностью), напряженная работа мысли, математическая точность формулировок, без какого-либо менторства или зазнайства. Вот только несколько названий этих мини- и даже микроэссе: “О презрении к народу власти и интеллигенции”, “О сытости и нравственности”, “Об аристократизме и преемственности власти”, “Об утопизме русской нации”, “О фанатизме и терпимости”, “Равенство и хамы”…
Многим ли сегодня все это нужно?.. Нет ответа… Или – все-таки есть, и мы его просто не знаем? Как не знаем до конца и Давида Самойлова – будем надеяться, что нам еще предстоит знакомство и с его “Дневниками”, и с полным корпусом его замечательных “несерьезных” произведений “В кругу себя”. Может быть, дождемся и самойловского тома в “Библиотеке поэта”.
Когда-то Давид Самойлов написал: “Превращаюсь в прозу, как вода в лед”. Кто учил термодинамику, помнит: при переходе воды из жидкой фазы в твердую выделяется теплота. Очень много теплоты.
Еврейский корень русского вопроса
Рабинович Я. Россия еврейская. – М.: Алгоритм, 2006.
В свое время Остап Бендер, отбиваясь от настырного иностранного журналиста, утверждал, что, хотя евреи в Советской России и наличествуют, но еврейского вопроса у нас нет. Великий комбинатор, разумеется, лукавил. Даже в России сегодняшней, где, согласно статистике, проживает в 40 раз меньше евреев, чем в начале прошлого века,еврейский вопрос все же существует. Правда, лишь как часть наиглавнейшего из проклятых русских вопросов : “Кто виноват?” (Излишне напоминать, как отвечают на него граждане, перманентно озабоченные отсутствием воды в кране,да и любой другой неприятностью личного либо государственного масштаба.) Соответственно, и книги по “русско-еврейской“ тематике продолжают выходить, а капитальный труд Александра Солженицына “Двести лет вместе” вызвал широкую волну публикаций в периодике.
Книга Якова Рабиновича “Россия еврейская” – еще одна, несомненно, тщетная попытка поставить точку над “i”. Монография посвящена судьбе евреев в России и, прежде всего, той роли, которую они сыграли в истории нашей страны. По словам автора, он “не имел ни малейшего намерения умалить причастность евреев к тем потрясениям, которые переживала Россия до революции, во время революции, или к тому, что страна переживает сегодня. Евреи жили в одной стране с с русскими и другими народами царской, а затем советской империи, значит, своей деятельностью содействовали всему хорошему и плохому, что происходило в стране”. Как считает Яков Рабинович, едва ли не главным фактором, определяющим историю евреев как в царской, так и в советской России (разумеется, наряду с политикой, проводимой государством в отношении их), были особенности еврейского национального характера.
Автор убедительно доказывает несостоятельность многих широко распространенных антисемитских мифов – о спаивании евреями-шинкарями русского народа, о трусливом бегстве советских евреев в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны, о мировом еврейском заговоре и т. п. Рассматриваются вопросы национальной самоидентификации и ассимиляции евреев, их исхода из постсоветской России и их положения в сегодняшнем Израиле. Показан значительный вклад евреев в развитие промышленности, науки и культуры, в укрепление обороноспособности страны. Особое место в книге занимает проблема антисемитизма – государственного и бытового.
При откровенной публицистичности книга наполнена серьезной аргументацией: цифры, факты, имена. Значительное место занимает критический анализ вышеупомянутой солженицынской работы, причем становится понятно, что последняя далеко не всегда отражает реальную картину событий, а многие ее выводы никак нельзя считать корректными.
Остается только не вполне понятно, для кого, собственно, “Россия еврейская” написана. Строго говоря, хорошо знакомый с темой читатель почерпнет из монографии Рабиновича не так уж много нового для себя – она в значительной мере компилятивна. Ну, а наши родные антисемиты, и скрытые, и явные, для которых эта книга могла бы стать небесполезным источником информации, хотя бы для общего развития, ее, конечно, и в руки не возьмут. Одно название наверняка вызовет у них отторжение, а в сочетании с фамилией автора, вероятно, даже рвотный рефлекс. И тут уж, видимо, ничего не изменить – так эти люди понимают патриотизм.
Как не следует разрушать мифы, или Почти объективное исследование
Буровский А. М. Евреи, которых не было: курс неизвестной истории. В 2-х кн. – М.:АСТ; Красноярск: “Издательские проекты”, 2004.
Не успела затихнуть бурная дикуссия вокруг капитальнейшего солженицынского труда “Двести лет вместе”, как появился еще один двухтомник примерно на ту же тему – работа красноярского историка Андрея Буровского с интригующим названием: “Евреи, которых не было”. Исследование сибирского ученого охватывает не два века русско-еврейского сосуществования, а едва ли не всю зафиксированную историю человечества, начиная буквально с библейских времен.