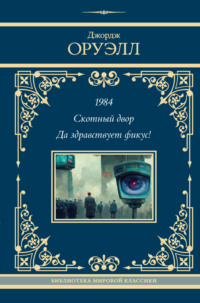Полная версия
1984
«Ой, только гляньте, кто это у нас работает в обеденный перерыв», – сказал Парсонс, подталкивая Уинстона в бок. «Какая увлеченность работой, а? Что у тебя там, старина? Полагаю, что-то слишком умное для меня. Смит, старина, а я за тобой гоняюсь. Ты забыл сдать деньги».
«На что именно», – спросил Уинстон, автоматически нащупывая деньги в кармане. Около четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, которых было настолько много, что их трудно было отслеживать.
«На Неделю Ненависти. Мы всем домом сдаем. Я собираю деньги со всех домов по нашей улице. Мы прилагаем все усилия, ведь мы не хотим опростоволоситься на празднике. Говорю тебе, я буду не причем, если на нашем старом доме «Победа» не будут висеть самые большие флаги со всей улицы. Ты обещал сдать мне два доллара.»
Уинстон нашел и отдал две скомканные грязные однодолларовые купюры, которые Парсонс вложил в небольшую записную книжку, и сделал запись аккуратными печатными буквами.
«Кстати, старина, – сказал он, – слышал, мой оболтус вчера подстрелил тебя из рогатки. Я задал ему хорошую взбучку за это. Я сказал ему, что заберу у него рогатку, если он сделает это снова».
«Я думаю, он был немного расстроен, что не пойдет на казнь», – сказал Уинстон.
«Ну, да, настрой у них правильный, тут спору нет! Они с сестрой, конечно, те еще оторвы, но это все из-за увлеченности и преданности общему делу! Все, о чем они думают – это шпионы, предатели, ну, и, конечно же, война. Знаешь, что моя маленькая дочурка сделала в прошлую субботу, когда ее отряд отправился в поход вдоль Беркхамстеда? Она подбила еще двух девочек улизнуть с ней из похода и весь день они следили за каким-то подозрительным типом. Они шли по его пятам два часа, прямо через лес, а затем, когда добрались до Амершема, сдали его патрульным».
«Зачем они это сделали?» – спросил Уинстон, несколько опешивший. Парсонс торжествующе продолжил:
«Моя дочка догадалась, что он вражеский агент, который, например, мог десантироваться в наших краях. Но вот в чем дело, старина. Как ты думаешь, что в первую очередь привлекло ее внимание? Она заметила, что на нем были забавные туфли, сказала, что никогда раньше не видела, чтобы кто-то носил такую обувь. Так что, скорее всего, он был иностранцем. Довольно умно для семилетней девчонки, а?»
«И что случилось с этим человеком?» – спросил Уинстон.
«Этого я, конечно, не знаю. Но я бы не удивился, если…» – Парсонс сделал движение, как будто прицеливается из автомата и щелкнул языком, изображая выстрел.
«Хорошо», – отстраненно буркнул Сайм, не отрываясь от полоски бумаги.
«Конечно, мы не можем позволить себе расслабиться, нужно всегда быть начеку», – покорно согласился Уинстон.
«Я об этом и говорю, идет война», – сказал Парсонс.
Словно в подтверждение этого, прямо над их головами с телеэкрана раздался звук трубы. Однако на этот раз это было не провозглашение очередной военной победы, а всего лишь заявление Министерства Изобилия.
«Товарищи!», – воскликнул энергичный молодой голос. «Внимание, товарищи! У нас для вас отличные новости. Победа на производственном фронте! Итоговые отчеты по выпуску всех видов потребительских товаров показывают, что уровень жизни граждан повысился не менее чем на двадцать процентов за последний год. Этим утром по всей Океании прокатились массовые спонтанные демонстрации, рабочие выходили с фабрик и офисов, и радостно маршировали по улицам с транспарантами, выражая свою благодарность Большому Брату за новую счастливую жизнь, которую его мудрое руководство даровало нам. Сейчас я зачитаю вам некоторые показатели. Продукты питания…»
Фраза «наша новая счастливая жизнь» повторялась несколько раз. Последнее время это была прямо любимая фраза Министерства изобилия. Парсонс, внимание которого явно было сосредоточено больше на звуке трубы, сидел и слушал сообщение с торжественным, но абсолютно скучным выражением лица. Он явно понятия не имел, что означают произносимые с телеэкрана цифры, но интуитивно догадывался, что они должны вызывать в нем радость и ликование. Он вытащил из кармана огромную грязную трубку, уже наполовину заполненную обугленным вонючим табаком. При норме табака 100 граммов в неделю редко удавалось набить трубку доверху. Уинстон закурил сигарету «Победа», которую осторожно держал строго горизонтально. Новый паек выдадут лишь завтра, а у него осталось всего четыре сигареты. На мгновение он заткнул уши, чтобы не слышать гул столовой, и стал прислушиваться к вещам, доносящимся из телеэкрана. Оказалось, что даже были демонстрации, чтобы поблагодарить Большого Брата за повышение нормы шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера, подумал он, было объявлено, что рацион должен быть уменьшен до двадцати граммов в неделю. Возможно ли, чтобы люди просто проглотили все это и забыли всего через двадцать четыре часа? Да, оказывается, возможно. Парсонс уж точно проглотил это легко, словно тупое животное. Безглазое крякающее существо за соседним столом тоже глотало информацию фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, осудить и испарить любого, кто предположит, что на прошлой неделе рацион составлял тридцать граммов. Сайм тоже это проглотил, правда, более сложным способом, включающим двоемыслие. Неужели Уинстон был здесь единственным, кто помнил, как все было на самом деле?
С телеэкрана продолжала сыпаться просто-таки сказочная статистика. По сравнению с прошлым годом было больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше младенцев – больше всего, кроме болезней, преступлений и безумия. Год за годом, минута за минутой, все и всё стремительно взлетали вверх. Как и Сайм ранее, Уинстон взял ложку и стал возиться с бледной подливкой, растекавшейся по столу, выводя в ней какие-то непонятные узоры. Он возмущенно размышлял о физической структуре жизни. Всегда ли так было? Всегда ли еда была такой на вкус? Он окинул взглядом столовую. Переполненная комната с низким потолком и грязными стенами, обшарпанные металлические столы и стулья, поставленные так близко друг к другу, что вы сидите, соприкасаясь локтями с соседом, погнутые ложки, помятые подносы, ободранные эмалированные железные кружки, все поверхности жирные и липкие, в каждой трещине грязь, смешанный кисловатый запах низкопробного джина, плохого кофе, тушеного мяса и нестиранной одежды. Все внутри и снаружи вас словно протестовало против существующего порядка вещей, вас не покидало ощущение, что вас лишили чего-то, на что вы имеете законное право. Да, Уинстон не знал другой жизни. Сколько он себя помнил, еды всегда было мало, у человека никогда не было носков или нижнего белья, которые не были бы дырявыми от старости, мебель всегда была потрепанной и шаткой, комнаты недостаточно отапливались, поезда были переполнены, дома давали трещины и разрушались, хлеб был черствым, кофе гадким на вкус, сигарет мало, а чай вообще был большой редкостью. Не хватало всего, и только дешевый синтетический джин всегда был в изобилии. И по мере того, как вы старели, ситуация, казалось, лишь ухудшалась. Если чем дальше, тем больше вас тошнит от дискомфорта, грязи и бедности, от бесконечных холодных зим и липкости старых носок, от вечно неработающих лифтов и ледяной воды из крана, от жесткого царапающего кожу мыла, от разваливающихся на куски сигарет и еды со странным неприятным привкусом – разве это не признаки того, что все это далеко не естественный порядок вещей? Наверняка, люди считают это невыносимым, потому что у них все же остались какие-то крохи воспоминаний (возможно, на подсознательном уровне), что когда-то все было совсем иначе.
Он снова оглядел столовую. Почти все выглядели уродливо, хотя, пожалуй, они все равно выглядели бы так же, даже если бы не были одеты все в одинаковые форменные синие комбинезоны. В дальнем конце комнаты, сидя за столом в одиночестве, щуплый, удивительно похожий на жука человечек пил кофе, обхватив своими ручонками облупленную белую кружку. Его маленькие глазки бегали из стороны в сторону, бросая косые подозрительные взгляды на окружающих. Как легко, подумал Уинстон (если, конечно, не оглядываться вокруг и не присматриваться к окружающим вас людям) поверить в существование, и даже преобладание среди населения того физически идеального типа человека, созданного Партией: высокие мускулистые юноши и девушки с пышной грудью, светловолосые, полные жизни, загорелые, беззаботные… На самом деле, насколько он мог судить, большинство людей на Взлетной полосе № 1 были невысокими, темноволосыми и некрасивыми. Любопытно, что именно люди с такой жукообразной внешностью преобладали в министерствах: маленькие коренастые человечки на коротких ножках, начинающие полнеть и обрастать жиром еще с подросткового возраста, но при этом суетливые и на удивление юркие, с жирными непроницаемыми лицами и маленькими свинячими глазами. Этот тип, казалось, лучше всего процветал под властью Партии.
Объявление Министерства изобилия закончилось еще одним звуком трубы и сменилось резкой не мелодичной музыкой. Парсонс, доведенный до какого-то дебильного энтузиазма потоком цифр, вынул трубку изо рта.
«Министерство изобилия в этом году определенно проделало хорошую работу», – сказал он, понимающе покачав головой. «Кстати, старина Смит, я полагаю, у тебя нет бритвенных лезвий, которые ты мог бы дать мне?»
«Ни одного», – сказал Уинстон. «Я сам пользуюсь одним и тем же лезвием вот уже шестую неделю».
«А, ну ладно… просто подумал, спрошу-ка у тебя на всякий пожарный, старина».
«Извини», – сказал Уинстон.
Крякающий голос за соседним столом, временно затихший во время объявления Министерства, снова начал вещать, даже еще громче, чем прежде. Уинстон внезапно обнаружил, что по какой-то причине думает о миссис Парсонс с ее тонкими волосами и пылью в морщинах. Через года два ее дети донесут на нее в Полицию Мыслей. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. ОБрайен испарится. Парсонс, с другой стороны, никогда не испарится. Безглазое существо с крякающим голосом тоже никогда не испарится. Маленькие жукообразные человечки, которые так проворно бегают по лабиринту коридоров министерств, тоже никогда не испарятся. И девушка с темными волосами из отдела Художественной литературы – она тоже никогда не испарится. Ему казалось, что он инстинктивно знал, кто выживет, а кто погибнет, хотя что именно является гарантией выживания, сказать было сложно.
В этот момент что-то резко выдернуло его из раздумий. Девушка за соседним столиком частично обернулась и смотрела на него. Это была девушка с темными волосами. Она искоса посмотрела на него, но скорее с любопытством. Как только их взгляды встретились, она снова отвернулась.
По позвоночнику Уинстона пробежал неприятный холодок. Его охватил ужас, который почти сразу исчез, но оставил после себя какое-то ноющее беспокойство. Почему она наблюдала за ним? Почему преследовала на каждом шагу? К сожалению, он не мог вспомнить, была ли она уже за столом, когда он пришел, или подсела после. Но вчера, во всяком случае, во время Двухминутки ненависти, она села прямо за ним, хотя в этом не было никакой необходимости, свободных мест в зале было предостаточно. Вполне вероятно, что она хотела послушать и убедиться, что он кричит достаточно громко.
Прежняя мысль вернулась к нему: вероятно, она все же не была членом Полиции Мыслей, но именно такой вот разведчик-любитель и представлял наибольшую опасность. Уинстон не знал, как долго она смотрела на него, но, возможно, целых пять минут, и возможно, он не полностью контролировал выражение своего лица в этот момент. Было чрезвычайно опасно позволять своим мыслям блуждать, находясь в любом общественном месте или в пределах досягаемости телеэкранов. Любая мелочь может вас выдать – нервный тик, бессознательная обеспокоенность, привычка бормотать себе под нос – все, что несет в себе хоть малейший намек на отход от нормы, на то, что вам есть что скрывать. В любом случае, иметь неподходящее выражение лица (например, недоверчиво смотреть при сообщении о победе) само по себе было нарушением, которое влекло за собой наказание. На новоязе было даже слово для этого: это называлось «лицепреступление».
Девушка снова отвернулась от него. Возможно, она на самом деле не преследовала его, возможно, это совпадение, что она сидела так близко к нему два дня подряд. Сигарета у него погасла, и он осторожно положил ее на край стола. Он сможет закурить ее после работы, если из нее не высыпется табак. Вполне вероятно, что человек за соседним столиком был шпионом Полиции Мыслей, и вполне вероятно, что следующие три дня ему придется провести в подвалах Министерства Любви, но остаток сигареты не должен пропасть зря. Сайм сложил полоску бумаги и спрятал в карман. Парсонс снова заговорил.
«А я рассказывал тебе, старина, – сказал он, посмеиваясь с трубкой во рту, – как мои сорванцы подожгли юбку старой торговки на рынке, потому что увидели, как она заворачивала сосиски в плакат с изображением ББ? Они подкрались к ней тихонько сзади и подожгли ей подол целым коробком спичек. Обгорела она неслабо. Маленькие негодяи, а? Но зато сколько энтузиазма! В Отряде юных разведчиков сейчас прекрасно обучают, даже лучше, чем в моем детстве. Угадай, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочные скважины! Когда моя дочурка принесла такую домой, она сразу же испробовала ее на двери нашей гостиной и посчитала, что слышит вдвое лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, понятное дело. Но она наставляет их на правильный путь, вкладывает им в головы правильные идеи!»
В этот момент телеэкран издал пронзительный свист. Это был сигнал вернуться к работе. Все трое вскочили на ноги, и присоединиться к толкотне у лифтов, а оставшийся табак выпал из сигареты Уинстона.
Глава 6
Уинстон писал в своем дневнике:
«Это случилось три года назад темным вечером в узком переулке возле одной из больших железнодорожных станций. Она стояла возле арки дома под тусклым уличным фонарем. У нее было молодое лицо, но она была очень ярко накрашена. Впрочем, меня это привлекало, белизна ее кожи, словно фарфоровая маска, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице никого не было, не было там и телеэкранов. Она сказала: «Два доллара». Я…»
Он остановился, продолжать было слишком трудно. Он закрыл глаза и надавил на веки пальцами, пытаясь буквально выдавить из них видение, которое никак не выходило у него из головы. Он боролся с искушением выругаться во весь голос. Ему хотелось удариться головой о стену, пнуть ногой по столу и швырнуть чернильницу в окно – совершить какой-нибудь жестокий, шумный или болезненный поступок, который мог бы стереть из его памяти мучившие его воспоминания.
«Ваш злейший враг, – подумал он, – это ваша собственная нервная система. В любой момент внутреннее напряжение могло превратиться в какой-нибудь видимый симптом. Он подумал о прохожем, которого он встретил на улице несколько недель назад, вполне обыкновенный мужчина, член Партии, от тридцати пяти до сорока лет, высокий, худощавый, с портфелем в руках. Они были в нескольких метрах друг от друга, когда левая сторона лица мужчины внезапно дернулась. Это случилось снова, когда они проходили мимо друг друга. Это была всего лишь мимолетная судорога, быстрая, как щелчок затвора камеры, но явно привычная. Он вспомнил, как думал в тот момент: с этим беднягой покончено. И самое страшное, что этот человек, возможно, даже не замечал, что с ним происходило. Но самая большая опасность – это разговаривать во сне. Насколько он мог судить, от этого не было никакого способа защититься.
Он перевел дух и продолжил писать:
«Я последовал за ней через арку во двор, а затем в полуподвальную кухоньку. У стены стояла кровать, а на столе приглушенно горела лампа. Она…»
Он стиснул зубы. Хотелось хорошенько плюнуть. Одновременно с женщиной в полуподвальной кухне он думал о Кэтрин, своей жене. Уинстон был женат, ну, по крайней мере, когда-то был. Хотя, вероятно, можно было сказать, что он все еще женат, поскольку он знал, что его жена не умерла. Ему казалось, что он снова вдыхает теплый спертый воздух полуподвального помещения, где пахло клопами, грязной одеждой и дешевыми духами, но, тем не менее, этот запах манил и возбуждал его, потому что партийные женщины никогда не пользовались духами, возможно, они даже не знали об их существовании. Душились только пролки. В его сознании запах духов был неразрывно связан с блудом.
Когда он пошел с этой женщиной, это было впервые за последние два года или около того. Использование услуг проституток, конечно, было запрещено, но это было одно из тех правил, которые иногда можно было позволить себе нарушить. Это было опасно, но это не было вопросом жизни и смерти. Если вас поймают с проституткой, это может означать пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если, конечно, вы не совершали никакого другого преступления. Все было довольно просто, главное, не быть пойманным на горячем. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. Некоторые даже готовы были отдаться за бутылку джина, который пролам не полагался. Негласно Партия даже в каком-то смысле поощряла проституции как способ дать волю своим природным инстинктам, которые нельзя было полностью подавить. Простое распутство не имело большого значения, пока оно было незаметным и безрадостным, и совершалось только с женщинами бедного и презираемого класса. Непростительным преступлением был разврат между членами Партии. Однако, хоть это и было одно из преступлений, в которых неизменно признавались обвиняемые во время больших чисток, было трудно представить, чтобы что-то подобное действительно происходило.
Целью Партии было не просто помешать мужчинам и женщинам построить отношения, которые она не могла бы контролировать. Ее истинная, негласная цель заключалась в том, чтобы лишить половой акт какого-либо удовольствия. Не столько любовь была врагом, сколько эротизмом, как в браке, так и вне него. Все браки между членами Партии должны были быть одобрены комитетом, созданным именно для этой цели. И, – хотя эта причина никогда официально не оглашалась – в разрешении всегда отказывали, если соответствующая пара производила впечатление такой, где между партнерами существует физическое влечение. Единственной признанной целью брака было зачать детей для их будущей службы на благо Партии и государства. Половой акт должен был рассматриваться как слегка отвратительная незначительная процедура, вроде клизмы. Это опять-таки никогда не говорилось прямо, а косвенным путем вкладывалось в сознание каждого члена Партии с самого детства. Для этого и существовали такие организации, как Молодежная антисексуальная лига, которые выступали за полное целомудрие для обоих полов. Все дети должны были быть рождены путем искусственного оплодотворения («ископлод» на новоязе) и воспитываться в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что все это было не всерьез, но каким-то образом это прекрасно соответствовало общей партийной идеологии. Партия пыталась убить сексуальный инстинкт или, если его нельзя было убить, извратить, сделать чем-то грязным и постыдным. Он не знал, почему это было так, но почему-то это казалось ему логичным и естественным. Что касается женщин, то усилия Партии в этом плане оказались весьма успешными.
Он снова подумал о Кэтрин. Должно быть, девять, десять, почти одиннадцать лет прошло с тех пор, как они расстались. Он на удивление редко о ней думал. Бывало, он вообще забывал, что когда-либо был женат. Они были вместе около пятнадцати месяцев. Вообще Партия не разрешала развод, но разрешала жить отдельно в случаях, когда у пары не было детей.
Кэтрин была высокой светловолосой девушкой, стройной и грациозной. У нее были правильные тонкие черты лица, и внешность ее можно было бы назвать благородной, пока не становилось понятно, что за этим красивым лицом прячется лишь полнейшая пустота. В самом начале их семейной жизни он понял – хотя, возможно, только потому, что узнал ее ближе, чем остальные люди – что у нее, пожалуй, самый глупый, извращенный и пустой ум, с которым он когда-либо сталкивался. Все мысли в ее голове сводились к партийным лозунгам, и она проглатывала и верила в любой бред, если он исходил от Партии. «Заевшая пластинка» – вот как он прозвал ее в собственном сознании. И даже с этим он мог бы мириться, если бы не одно – секс.
Как только он прикасался к ней, она, казалось, вздрагивала и застывала. Обнимать ее было все равно, что обнимать бревно. И что было еще более странно, даже когда она прижимала его к себе, ему казалось, что она одновременно отталкивает его изо всех сил. Все ее тело будто деревенело. Она лежала с закрытыми глазами, она не сопротивлялась, но и помогала. Было такое впечатление, что она просто подчиняется партийному правилу или указанию. Это было крайне неловко, а через некоторое время стало просто невыносимым. Но даже тогда он готов был жить с ней, если бы они просто договорились хранить целомудрие, и на этом все. Но, как ни странно, от этой идеи отказалась сама Кэтрин. Она сказала, что они должны произвести на свет ребенка. Так что этот спектакль абсурда продолжался регулярно, раз в неделю, когда это было возможно. Она даже напоминала ему об этом по утрам, как о чем-то, что нужно было сделать этим вечером и о чем нельзя забывать. У нее было два названия для этого. Одно «зачать ребенка», а второе «наш долг перед Партией» (да, она действительно использовала эту фразу). Вскоре у него появилось прямо таки чувство страха перед предстоящим занятием. Но, к счастью, ребенка зачать никак не удавалось, и в конце концов она согласилась бросить попытки, и вскоре после этого они расстались.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
«Она бросилась на кровать и тут же, без всякой предварительной подготовки, самым грубым и вульгарным образом, вы можете себе представить, задрала юбку. Я…»
Он увидел себя стоящим там в тусклом свете лампы, с запахом клопов и дешевых духов в ноздрях, он чувствовал бессилие и негодование, которые даже в тот момент смешивались с мыслью о белом теле Кэтрин, застывшем навеки под гипнотической силой Партии. Неужели так будет всегда? Почему у него не может быть собственной женщины вместо этих мерзких сношений раз в несколько лет? Но настоящие романтические отношения были событием почти немыслимым. Все партийные женщины были одинаковые. Целомудрие укоренилось в них так же глубоко, как и партийная преданность. Благодаря тщательной ранней подготовке, обливаниям ледяной водой, ахинее, которую вколачивали в их головы в школе и в Отряде юных разведчиков, а потом и в Молодежной лиге, благодаря лекциям, парадам, песням, лозунгам и маршам, естественные чувства и эмоции были вытеснены из них. Его разум подсказывал ему, что должны быть исключения, но его сердце уже не верило этому. Все они были неприступны, как и требовала Партия. Но больше, чем быть любимым, ему хотелось сломать эту стену добродетели, даже если это было бы всего один раз за всю его жизнь. Полноценный половой акт считался бунтом. Влечение считалось преступлением. Даже возбудить Кэтрин, если бы он смог этого добиться, считалось бы совращением, хотя она была его женой.
Но остальную часть истории нужно было записать. Поэтому он продолжил:
«Я включил лампу. Когда я увидел ее при свете…»
После темноты улицы даже слабый свет парафиновой лампы казался слишком ярким. Наконец-то перед ним была настоящая женщина. Он сделал шаг к ней и остановился, его переполняли похоть и ужас. Он прекрасно осознавал риск, на который пошел, приехав сюда. Вполне возможно, что патрули схватят его на выходе. Если уж на то пошло, они могли уже поджидать за дверью. Если он уйдет, даже не сделав того, ради чего пришел сюда…
Это нужно было все записать, ему нужно было во всем признаться. При свете лампы он неожиданно для себя понял, что женщина старая. Макияж был нанесен на ее лицо так густо, что казалось, вся эта фарфоровая маска вот-вот треснет. Ее волосы были седыми, но поистине ужасной деталью было то, что когда ее рот приоткрылся, там не было ничего, кроме зияющей черной бездны. У нее совсем не было зубов.
Он нервно написал дрожащим почерком:
«Когда я увидел ее при свете, она была совсем старой женщиной, лет пятидесяти по крайней мере. Но это меня не остановило, и я сделал то, зачем туда пришел».
Он снова нажал пальцами на веки. Наконец-то он это записал, но это не подействовало, терапия не сработала. Желание выкрикивать грязные ругательства во весь голос сейчас было как никогда сильным.
Глава 7
Уинстон писал, что если и есть надежда, то только на пролов.
«Только на них вся надежда, потому что только среди них, в этой огромной игнорируемой массе, которая, к слову, составляла 85 % населения Океании, может когда-нибудь появиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя было свергнуть изнутри. Ее враги, если таковые были, не имели возможности сгруппироваться или даже идентифицировать друг друга. Даже если легендарное Братство и существовало, то было очень маловероятно, что его члены когда-либо собирались в количестве большем, чем двое или трое. Для них взгляд глаза в глаза, легкое изменение тона голоса, опрокинутое шепотом слово уже было проявлением бунта. Но пролы, если бы только они могли каким-то образом осознать свою силу, не нуждались бы в заговоре. Им нужно было только встать и встряхнуться, как лошадь, стряхивающая с себя мух. Если бы они захотели, они могли бы уже завтра утром разнести Партию на кусочки. Конечно, рано или поздно им должно прийти это в голову! И все же…!»