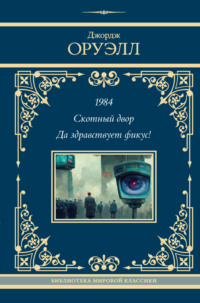Полная версия
1984
Иногда даже можно было переключить ненависть в ту или иную сторону сознательно. Внезапно, с каким-то неистовым усилием, с которым в кошмаре отрывается голова от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девушку позади него. Яркие красивые галлюцинации промелькнули в его голове. Он забивает её до смерти резиновой дубинкой. Он привязывает ее обнаженную к столбу и стреляет в нее стрелами, как в святого Себастьяна. Он насилует ее и перерезает ей горло в момент наивысшего экстаза. Более того, даже лучше, чем раньше, он осознал, почему ненавидит ее. Он ненавидел ее, потому что она была молодой, красивой, и при этом всем – секс и сексуальность как таковая ее абсолютно не интересовали; потому что он хотел спать с ней, но знал, что этому никогда не бывать, потому что вокруг ее тонкой гибкой талии, которая, казалось, так и просила обвить ее рукой, был обмотан ненавистный алый кушак – агрессивный символ целомудрия.
Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в настоящее блеяние овцы, и на мгновение лицо превратилось в овечье. Затем овечье лицо растворилось в фигуре евразийского солдата, огромного и ужасного. Казалось, что он со своим неистово грохочущим автоматом сейчас выпрыгнет с экрана прямо на зрителей, так что некоторые люди, сидевшие в передних рядах, испуганно вздрагивали и уклонялись. Но уже в следующий момент, вызвав у всех глубокий выдох облегчения, враждебная фигура растворилась, и ей на смену пришло лицо Большого Брата – черноволосого, черноусого, полного силы и какого-то таинственного и умиротворяющего спокойствия. Лицо его становилось все больше, оно заполнило собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Большой Брат. Это были всего лишь несколько слов ободрения, которые произносятся в грохоте битвы, неразличимые по отдельности, но внушающие уверенность самим фактом их произнесения. Затем лицо Большого Брата снова исчезло, и вместо него жирным шрифтом были выделены три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИРСВОБОДА – ЭТО РАБСТВОНЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛАКазалось, что лицо Большого Брата не исчезло полностью, а сохранялось на экране еще в течение нескольких секунд, стало как бы фоном для заветных лозунгов. Воздействие, которое оно оказало на глаза, было слишком сильным, его образ буквально врезался в сознание и не спешил его покидать. Маленькая рыжеволосая женщина бросилась вперед, перепрыгивая через спинку стула перед ней. С дрожью в голосе она бормотала что-то похожее на «Мой Спаситель!» и тянула руки к экрану. Затем она закрыла лицо руками. Я понял, что она произносит что-то вроде молитвы.
В этот момент вся группа начала медленно и ритмично скандировать: «Б-Б! Б-Б!» – снова и снова, очень медленно, с длинной паузой между первой «Б» и второй – тяжелый, бормочущий звук, в котором было что-то дикарское, и на фоне всего этого, казалось, буквально слышался топот босых ног и ритмичные удары тамтамов. Все это продолжалось секунд тридцать. Это мерное гипнотическое песнопение можно было часто услышать в моменты эмоционального пика. Отчасти это был своего рода гимн, такая себе ода мудрости и величию Большого Брата, но как по мне, это был скорее акт самовнушения, преднамеренное подавление сознания посредством ритмичного шума. Внутри у Уинстона все застыло. На Двухминутках ненависти ему не удавалось не поддаться всеобщему эмоциональному порыву, но это нечеловеческое пение «Б-Б!.. Б-Б!» всегда вселяло в него ужас. Конечно, он пел вместе с остальными, иначе было невозможно. Скрывать свои чувства, контролировать свое лицо, делать то, что делают все остальные, было инстинктивной реакцией. Но были моменты, буквально пару секунд, когда даже не столько выражение лица, а просто мимолетный взгляд мог выдать его. И именно в этот момент произошло знаменательное событие – если, конечно, оно вообще произошло.
На мгновение он поймал взгляд ОБрайена. ОБрайен встал. Он снял очки и своим характерным жестом собирался натянуть их себе обратно на нос. Их взгляды встретились на долю секунды, но Уинстон знал – о да, он знал! – что ОБрайен думал о том же, что и он сам. Ошибки быть не могло. Как будто их два разума открылись, и мысли перетекали от одного к другому через их глаза. «Я с тобой», – казалось, говорил ему ОБрайен. «Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю все о твоем презрении, твоей ненависти, твоем отвращении. Но не волнуйся, я на твоей стороне!» А затем этот проблеск исчез, и лицо ОБрайена стало таким же непроницаемым, как и у всех.
Все. Он уже и не знал, было ли это на самом деле или ему лишь привиделось. Подобные «инциденты» никогда не имели продолжения. Все, что они делали – это поддерживали в нем веру или надежду, что другие тоже (а не только он сам) являются врагами Партии. Возможно, слухи о масштабных подпольных заговорах все же были правдой – возможно, Братство действительно существовало! Учитывая бесконечные аресты, признания и казни, невозможно было непреклонно полагать, что Братство – это просто миф. Иногда он верил в это, иногда нет. Не было никаких доказательств, только такие вот мимолетные проблески, которые могли означать что угодно или не означать абсолютно ничего, обрывки подслушанного разговора, еле заметные каракули на стенах туалета. Иногда даже легкое движение руки, когда сталкивались двое незнакомых людей, казалось ему каким-то тайным сигналом или паролем. Но все это были лишь догадки: скорее всего, у него просто разыгралось воображение. Он вернулся в свою кабинку, больше на ОБрайена он не смотрел. Идея дать какое-то продолжение их кратковременному зрительному контакту мелькала у него в голове. Это было бы невероятно опасно, даже если бы он знал, как это сделать. На секунду или две они обменялись с ОБрайеном двусмысленными взглядами, и на этом был конец истории. Но даже это было для Уинстона памятным событием в том мучительном одиночестве, в котором ему приходилось жить.
Уинстон вернулся к реальности и выпрямился. Он испустил отрыжку – это джин напомнил о себе из желудка.
Его глаза снова сосредоточились на странице. Он обнаружил, что пока беспомощно сидел в раздумьях, он тоже писал, как будто автоматически. И это был уже не тот мелкий, корявый почерк, как раньше. Его перо легкими движениями скользило по гладкой бумаге, выписывая большими аккуратными прописными буквами…
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
Снова и снова. Он исписал уже половину страницы.
Его охватила паника. Это было абсурдом, поскольку написание этих конкретных слов было не более опасным, чем открыть проклятый блокнот и начать вести дневник, но на мгновение у него возникло искушение вырвать исписанные страницы и полностью отказаться от всей этой затеи.
Но он этого не сделал, потому что знал, что это бесполезно. Писал он «Долой Большого брата» или нет – не имело значения. Будет он продолжать вести дневник или прекратит, тоже не имело значения. Полиция Мыслей все равно узнает и придет за ним. Даже если бы он не прикоснулся пером к бумаге, не важно, он уже совершил серьезное преступление. Это называлось «мыслепреступление». Мысленное преступление невозможно было вечно скрывать. Вы можете успешно таиться какое-то время, даже в течение многих лет, но рано или поздно они обязательно вас поймают.
Это всегда было ночью – аресты неизменно происходили ночью. Вас внезапно вырывали из сна, грубая рука трясла ваше плечо, в глаза бил яркий свет, а вокруг вашей кровати стояли люди, глядя на вас с каменными лицами. В большинстве случаев не было ни суда, ни даже сообщения об аресте. Люди просто исчезали, всегда ночью. Ваше имя просто удалялось из реестров вместе со всеми записями о том, что вы когда-либо делали. Вас просто стирали из реальности, ваше существование в один момент удалялось, а затем просто забывалось. Вас упраздняли, уничтожали, или, как было принято говорить – испаряли.
На мгновение Уинстона охватила какая-то истерия. Он начал писать торопливыми неопрятными каракулями:
«они будут стрелять в меня, меня не волнует, что они будут стрелять мне в затылок мне все равно долой большого брата они всегда стреляют тебе в затылок мне плевать долой большого брата».
Уинстон откинулся на спинку стула, ему даже было немного стыдно за самого себя. Он отложил ручку. В следующий момент он резко вздрогнул. В дверь постучали.
Уже! Он сидел неподвижно, как мышь, в тщетной надежде, что кто бы это ни был, он уйдет после первой попытки. Но нет, стук повторился. Хуже всего будет оттягивать это дело. Его сердце колотилось, как барабан, но лицо из-за долгой привычки, вероятно, оставалось невозмутимым. Он встал и медленно пошел к двери.
Глава 2
Взявшись за ручку двери, Уинстон увидел, что оставил дневник открытым на столе. «Долой Большого брата» было написано повсюду, причем такими большими буквами, что разобрать написанное можно было с любой точки в комнате. Это было невероятно глупо с его стороны. Но даже в панике он не хотел замарать кремовую бумагу, закрыв книгу, пока чернила были влажными.
Он вдохнул и открыл дверь. Мгновенно на него накатила теплая волна облегчения. Снаружи стояла бледная, подавленная женщина с тонкими волосами и морщинистым лицом.
«О, товарищ, – сказала она унылым, ноющим голосом, – мне показалось, что я слышала, как вы вошли. Как вы думаете, вы могли бы подойти и взглянуть на нашу кухонную раковину? Кажется, она забилась, и…»
Это была миссис Парсонс, жена его соседа по этажу. Вообще слово «миссис» несколько осуждалось Партией – вы должны были называть всех «товарищами» – но с некоторыми женщинами это слово срывалось с языка инстинктивно. Это была женщина лет тридцати, но выглядела она намного старше. Создавалось впечатление, что в морщинах ее лица скапливалась пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Почти каждый день что-то то отваливалось, то ломалось, то засорялось. «Победа» – это старый многоквартирный дом, построенный примерно в 1930 году, и он уже буквально разваливался на части. Штукатурка постоянно отслаивалась от потолков и стен, трубы лопались при каждом сильном морозе, крыша протекала всякий раз, когда выпадал снег, отопительная система обычно работала лишь наполовину, если ее и вовсе не отключали полностью из соображений экономии. Чтобы что-то починить – если вы конечно не могли сделать этого своими руками – нужно было ждать санкцию от удаленных комитетов, так что даже простейший ремонт оконного стекла мог затянуться на пару лет.
«Конечно, это только потому, что Тома нет дома», – неопределенно добавила миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, но выглядела очень убого. Все выглядело каким-то обшарпанным и поломанным, как будто здесь только что буйствовал какой-то большой дикий зверь. На полу валялись клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пара вывернутых наизнанку потных шорт, а на столе громоздилась куча грязной посуды и рваные тетради. На стенах красовались знамена Молодежной лиги и Отряда юных разведчиков, а также большой плакат с изображением Большого Брата. Пахло вареной капустой, как и всегда в этом здании – казалось, этим запахом были уже пропитаны сами стены дома – но сейчас этот запах перебивала резкая вонь пота, причем с первого вдоха ты понимал (как именно – объяснить невозможно), что это пот человека, которого сейчас нет в помещении. В соседней комнате кто-то при помощи деревянной расчески и рулона туалетной бумаги пытался подыгрывать военному маршу, который все еще доносился с телеэкрана.
«Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросив на дверь испуганный взгляд, – они сегодня не выходили гулять, и конечно же…»
У нее была привычка обрывать предложения на середине. Кухонная раковина была почти до краев заполнена грязной зеленоватой водой, оттуда воняло капустой даже хуже, чем обычно. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловое соединение трубы. Он терпеть не мог пачкать руки и ненавидел наклоняться, потому что это всегда вызывало у него приступ кашля. Миссис Парсонс беспомощно на него смотрела.
«Конечно, если бы Том был дома, он бы сразу все починил, – сказала она, – он любит все чинить. У него золотые руки, у моего Тома».
Парсонс был коллегой Уинстона в Министерстве правды. Он был тучным, но активным человеком – яркий пример человеческой глупости и тупого энтузиазма – одним из тех самозабвенно преданных рабочих, беспрекословно выполняющих все указания. От таких как он стабильность Партии зависела даже больше, чем от Полиции Мыслей. В тридцать пять лет его исключили из Молодежной лиги в силу его возраста, а до этого, перед тем, как перейти в Молодежную лигу, он каким-то образом пересидел в Отряде юных разведчиков аж на целый год больше, чем позволял ему его возраст. В министерстве он работал на какой-то заурядной должности, для которой не требовалось много ума, но зато он был видной фигурой в Спортивном комитете и других комитетах, участвовавших в организации общественных походов, спонтанных демонстраций, кампаний по экономии средств и ресурсов и прочих добровольных мероприятий. Во время перекура он не упускал возможности с гордостью упомянуть, что в течение последних четырех лет он каждый вечер появлялся в Общественном центре. Сильный запах пота, своего рода бессознательное свидетельство его напряженного графика и бурной общественной деятельности, сопровождал его повсюду, куда бы он ни шел, и потом еще долго висел в воздухе после его ухода.
«У вас есть разводной ключ? – спросил Уинстон, воюя с гайкой на угловом стыке труб.
«Разводной ключ…? – аморфно переспросила миссис Парсонс. «Я даже не знаю, я не уверена… Возможно, дети…»
Когда дети ворвались в гостиную, раздался топот сапог и очередной удар гребня по рулону. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением удалил клок человеческих волос, забивший трубу. Он как мог вымыл пальцы холодной водой из-под крана и вернулся в гостиную.
«Руки вверх!» – заверещал детский голос.
Симпатичный, крепкого телосложения мальчишка лет девяти выскочил из-за стола и стал угрожать ему игрушечным автоматом, в то время как его младшая сестра, примерно на два года младше, сделала тот же жест веткой от дерева. Оба были одеты в синие шорты, серые рубашки и красные шейные платки, которые были униформой Отряда юных разведчиков. Уинстон поднял руки над головой, но его охватило какое-то тревожное чувство, потому что мальчик вел себя так, словно для него это была вовсе не игра.
«Ты предатель!» – кричал он. «Ты мысленный преступник! Ты евразийский шпион! Я застрелю тебя, испарю, отправлю в соляные шахты!»
И тут они оба начали прыгать вокруг него, выкрикивая «Предатель! Мыслепреступник!». Маленькая девочка подражала своему брату в каждом движении. Это было даже немного пугающе: как игра тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика была какая-то расчетливая свирепость, совершенно очевидное желание ударить или пнуть Уинстона, а еще осознание того, что он уже почти дорос до того, чтобы сделать это. «Хорошо, что это не настоящий автомат», – подумал Уинстон.
Взгляд миссис Парсонс нервно метался с Уинстона на детей и обратно. Сейчас в более ярком освещении гостиной он с интересом отметил про себя, что в морщинах ее лица действительно была пыль.
«Они порой бывают такие шумные, – сказала она, – они просто расстроились, потому что не смогут пойти посмотреть на повешение. Вот в чем дело. У меня слишком много дел, чтобы вести их туда, а Том не успеет вернуться с работы, чтобы с ними сходить».
«Почему мы не можем пойти посмотреть на повешение?» – взревел мальчик.
«Хочу увидеть повешение! Хочу увидеть повешение!» – закричала девочка, все еще прыгая.
Уинстон вспомнил, что в тот вечер в парке должны были казнить парочку евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Это происходило примерно раз в месяц и было популярным зрелищем. Дети всегда требовали, чтобы их водили посмотреть на казнь. Он попрощался с миссис Парсонс и направился к двери. Но не успел он пройти и нескольких метров, как что-то прилетело ему по затылку, нанеся мучительно болезненный удар. Было такое ощущение, что в него воткнули раскаленную проволоку. Он обернулся и увидел, как миссис Парсонс тащит сына обратно в квартиру, а мальчик с ухмылкой засовывает в карман рогатку.
«Гольдштейн!» – проревел мальчик, когда дверь за ними закрылась. Но что больше всего поразило Уинстона, так это выражение беспомощного испуга на сероватом лице женщины.
Вернувшись в квартиру, он быстро миновал телеэкран и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка на телеэкране прекратилась. Теперь грозный военный голос пафосно зачитывал описание вооружения новой Плавучей крепости, которая только что стала на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
Он подумал, что с такими сорванцами жизнь этой несчастной женщины, должно быть, не сахар. Еще год или два, и они будут наблюдать за ней день и ночь в поисках симптомов инакомыслия. В наши дни почти все дети были такими. Хуже всего было то, что с помощью таких организаций, как Юные разведчики, они систематически превращались в неуправляемых маленьких дикарей, и, тем не менее, это абсолютно не побуждало их восставать против партийной дисциплины. Напротив, они обожали Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, тренировка с манекенами, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – все это было для них отличной игрой. Вся их свирепость была обращена вовне, против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, мысленных преступников. Для людей старше тридцати было привычным бояться собственных детей. И не зря, не проходило и недели, чтобы в «Таймс» не появлялась заметка, описывающая, как какой-то мелкий доносчик – правда, обычно употреблялась фраза «ребенок-герой» – подслушал компрометирующее замечание и сообщил Полиции Мыслей о своих родителях.
Боль в затылке прошла. Он без энтузиазма взял ручку, размышляя, что бы еще написать в дневнике. Внезапно он снова начал думать об ОБрайене.
Много лет назад… Так, много это сколько? Где-то семь лет назад ему приснилось, что он идет через темную комнату. И вот кто-то, сидевший сбоку сказал, когда он проходил мимо: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано очень тихо, как бы невзначай, просто сообщение, а не указание. Он шел дальше, не останавливаясь. Что любопытно, в то время, во сне, слова не произвели на него особого впечатления. Только потом постепенно они, казалось, начали приобретать для него значение. Он уже не мог вспомнить: до или после сна он впервые увидел ОБрайена, и когда он понял, что узнал его голос. Но в любом случае это был он, это ОБрайен говорил с ним из темноты.
Уинстон никогда не был до конца уверен – даже после их утренней встречи взглядами – был ОБрайен другом или врагом. Но это было и не важно. Между ними существовала связь, понимание, а это было важнее дружбы или верности Партии. «Мы встретимся там, где нет темноты», – сказал он. Уинстон не знал, что это значит, знал только то, что так или иначе это сбудется.
Голос с телеэкрана замолчал. Звук фанфар, чистый и бодрый, заполнил душную комнату. Голос резко объявил:
«Внимание! Внимание! Только что пришла сводка с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что действия, о которых мы сейчас сообщаем, могут окончить войну уже в ближайшем будущем. Экстренное сообщение…»
«О, а сейчас скажут что-то плохое», – подумал Уинстон. И действительно, вслед за кровавым описанием уничтожения евразийской армии с огромным количеством убитых и пленных последовало объявление о том, что со следующей недели шоколадный паек будет сокращен с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова отрыгнул. Действие джина улетучивалось, оставляя после себя лишь чувство подавленности. Телеэкран – возможно, чтобы отпраздновать блестящую победу, а может быть, чтобы затмить новость об уменьшении шоколадного пайка – начал проигрывать «Океания, это для тебя». По правилам, нужно было стоять по стойке смирно во время этого гимна. Однако сейчас его не было видно, поэтому он остался сидеть.
После «Океания, это для тебя» заиграла более легкая музыка. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был по-прежнему холодным и ясным. Где-то далеко с глухим ревом взорвалась баллистическая ракета. Сейчас на Лондон приходилось около двадцати или тридцати ракетных ударов в неделю.
Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. АНГСОЦ. Священные принципы АНГСОЦ. Новояз, двоемыслие, изменчивость прошлого. Его охватило ощущение, будто он блуждает в зарослях морского дна, заблудившись в каком-то чудовищном мире, где он и сам был чудовищем. Он был один. Прошлое было мертво, а будущее невообразимо. Мог ли он хоть с крупицей уверенности сказать, что на его стороне сейчас был хоть один человек на Земле? И как узнать, что диктатура Партии не будет длиться вечно? В качестве ответа на него смотрели три лозунга на белом фасаде Министерства Правды:
ВОЙНА – ЭТО МИРСВОБОДА – ЭТО РАБСТВОНЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛАОн вынул из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней тоже мелкими четкими буквами были написаны те же лозунги, а на другой стороне монеты изображено лицо Большого Брата. Даже с монеты глаза преследовали тебя. На монетах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, на упаковке сигаретной пачки – они были везде. Эти глаза всегда наблюдали за тобой, а голос преследовал, куда бы ты ни пошел. Сон или бодрствование, работа или отдых, в помещении или на улице, в ванной или в постели – скрыться было негде. Ничего не было твоим, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа.
Солнце скрылось за зданиями, и бесчисленные окна Министерства Правды, на которые больше не попадал солнечный свет, выглядели мрачно, словно бойницы крепости. Сердце Уинстона дрогнуло от вида этого огромного пирамидального монстра. Здание министерства было слишком неприступным, его невозможно было штурмовать. Даже тысяче баллистических ракет не под силу уничтожить его. Он снова задумался, для кого он пишет дневник. Для будущего? Для прошлого? А может, для воображаемой эпохи, которой не суждено никогда настать? То, что лежало сейчас на его столе сулило не смерть, а полное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а он сам испарится. Только Полиция Мыслей могла прочитать то, что он написал, прежде чем стереть это с лица земли и из памяти. Как можно обращаться к будущему поколению, если не останется ни следа ни от вас самих, ни от безымянных строк, нацарапанных на листе бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать ноль-ноль. У него еще есть десять минут. Он должен успеть вернуться на работу к четырнадцати тридцати.
Удивительно, но бой часов, казалось, воодушевил его. Он был словно одинокий призрак, говорящий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет говорить эту правду, связь поколений будет поддерживаться. И дело вовсе не в том, что тебя кто-то услышит, а в том, что ты сам остаешься в здравом уме. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:
«В будущее или прошлое, во времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, во времена, когда правда существует и то, что сделано, не может быть отменено: из эпохи однообразия, эпохи одиночества, эпохи Большого Брата, эпохи двоемыслия – привет!»
Он словил себя на мысли, что он уже мертв. Ему казалось, что только теперь, когда он начал формулировать свои мысли, он сделал решительный шаг и пути обратно уже не было. В каждое наше действие уже заложены последствия. Он написал:
«Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление – это и есть смерть».
Теперь, когда он осознал, что уже мертв, важно было оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки были испачканы чернилами. Это была именно та деталь, которая могла его выдать. Какой-нибудь фанатик в министерстве (вероятно, женщина, кто-то вроде рыжеволосой женщины или темноволосой девушки из Отдела Художественной литературы) может начать задаваться вопросом, почему он писал в обеденный перерыв, почему он использовал старомодное перо, что же он там писал, – а затем расскажет об этом кому следует. Он пошел в ванную и тщательно стер чернила при помощи зернистого темно-коричневого мыла, которое царапало кожу, как наждачная бумага, и поэтому отлично подходило для этой цели.
Он положил дневник в ящик. Было совершенно бесполезно думать о том, чтобы его прятать, но он, по крайней мере, мог легко проверять, был ли кем-то обнаружен его дневник. Волос, уложенный на уголке страницы – банально и слишком очевидно. Кончиком пальца он поднял узнаваемую для него крупинку беловатой пыли и положил ее на угол обложки, откуда она должна была отряхнуться, если книгу сдвинуть.
Глава 3
Уинстону снилась его мать.
Он предполагал, что ему было лет десять или одиннадцать, когда его мать исчезла. Она была высокой, статной, тихой женщиной с медленными движениями и великолепными светлыми волосами. Отца он помнил смутно, темноволосый и худой, всегда одет в аккуратную темную одежду (Уинстон запомнил особенно тонкую подошву отцовских туфель), а на носу очки. Очевидно, они стали жертвами одной из первых крупных чисток пятидесятых годов.