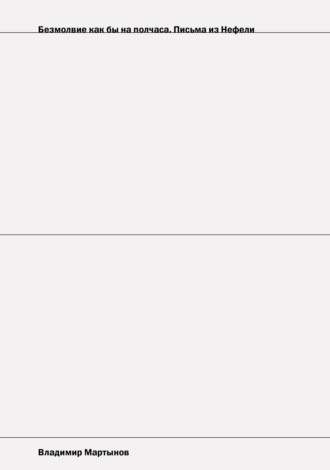
Полная версия
Безмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели

Владимир Мартынов
Безмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Мартынов В. И., 2018
© Васин А. А., оформление, 2018
© Издательский дом «Классика-XXI», 2018
⁂…И, наконец, я овладел чудесным даром – единственным словечком «мяу» высказывать радость, боль, наслаждение и восторг, страх и отчаяние, словом, самые разнообразные оттенки ощущений и страстей. Чего стоит человеческий язык по сравнению с этим простейшим из простейших средств для того, чтобы заставить понять себя?
Э. Т. А. ГофманБезмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели
1Дитя слепого старца, Антигона,Куда пришли мы? Как зовут страну?Кто в ней живет? Кто бедному скитальцуПредложит скудный милостыни дар?[1]2Ну вот мы с Таней снова у себя дома на берегу Эгейского моря в Нефели. На этот раз мы решили лететь через Афины, где из-за задержки московского рейса пришлось чуть-чуть понервничать, но все, к счастью, обошлось, и в Салониках у выхода из аэропорта уже стоял рентакар, готовый мчать нас по направлению к Халкидикам, через Неа-Муданью на Кассандру, мимо безлюдных курортных комплексов и пустых мезонет. Подъезжая к Нефели, мы завернули в Неа-Скиони, чтобы в тамошнем супермаркете отовариться всем необходимым, и, вновь вырулив на дорогу, через несколько минут остановились у наших ворот прямо перед часовней Фанеромени. Солнце почти совсем село, кругом не было ни души, и стояла такая неправдоподобная тишина, что закладывало уши. Казалось, что время здесь не просто остановилось, но что здесь сбылось сказанное в Апокалипсисе и времени вообще больше не будет. Я был готов уже принять это как данность, но тут откуда-то возник сторож Георгас, который открыл нам ворота, и мы въехали на совершенно безлюдную территорию, окруженную необитаемыми домами. Георгас исчез так же внезапно, как и появился. Он просто растворился в общем безлюдье, но зато стоило нам только выйти из машины, как нас тут же окружила шебутная компания, состоящая из небольшой лохматой собачки и трех котов – двух рыжих и одного серого. Собачку эту мы давно уже знали – это была собачка Георгаса, а вот котов здесь раньше не было. Совсем еще молодые, диковатые и пугливые, они пытались приблизиться к нам, но тут же шарахались прочь, стоило лишь протянуть руку, зато собачка неистово носилась вокруг нас, всячески выказывая свой восторг. Пока мы выгружались из машины и заносили вещи в дом, солнце село, но было еще светло, и, наверное, не могло быть более подходящего момента для того, чтобы не спеша выйти на берег и почувствовать себя дома. Удивительно, но здесь, на берегу Эгейского моря, в вечерних сумерках мне внезапно вспомнились совсем другие пейзажи – скупые северные ландшафты последнего фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ибо и северные ландшафты «Жертвоприношения», и то, что видел теперь я, было осенено одним общим состоянием – состоянием безмолвия и меланхолии: того безмолвия и той меланхолии, которые еще в самом начале ХХ века были воспеты Джорджо де Кирико. Я смотрел на пустынную дорогу, идущую вдоль моря, на мягкие очертания холмов, на прибрежную часовню, из приоткрытой двери которой струится мягкий свет, и думал о том, что в далеком 1910 году на площади Санта-Кроче во Флоренции де Кирико сподобился действительно поразительного откровения. Ему открылось, что домом Бытия является вовсе не язык, как полагал Хайдеггер, а безмолвность безлюдия, в которой нет места человеку, и уж тем более – человеку говорящему. В связи с этим мне пришли в голову слова одного из героев «Соляриса»: «Человеку нужен человек». И, несмотря на то что когда-то я умилялся этим словам, сейчас они показались мне абсолютной банальностью. Такой же банальностью, какой являются высокоумные диалоги «Жертвоприношения», звучащие на фоне божественной безмолвности ландшафтов этого фильма. Человеку нужен вовсе не человек – человеку нужна безмолвность безлюдия, человеку нужно безлюдие. Безмолвность безлюдия – это не просто дом Бытия, это последнее пристанище человека. В Апокалипсисе говорится о безмолвии, которое наступит на небе «как бы на полчаса» после снятия седьмой печати. И я вдруг осязательно почувствовал, что преддверие этого безмолвия находится именно здесь, в Нефели, и что я стою на его пороге. Конечно же, кто-то может сказать, что у окружившего меня безмолвного безлюдия имелись гораздо более прозаические причины. Ну, во-первых, курортный сезон еще не наступил, и именно это может объяснить, почему здесь никого нет, а во-вторых, кризиса еще никто не отменял, и уж точно никто не отменял его в Греции. Здесь даже в самый разгар сезона очень малолюдно и многочисленные гостиницы стоят почти пустые, частично заполняясь только в субботу и воскресенье. На восточном берегу Кассандры народу намного больше, и где-нибудь в Ханиоти или Пефкохори летом нужно даже продираться сквозь толпы отдыхающих, но поздней осенью и зимой и в этих местах создается такое впечатление, будто прямо сейчас, только что взорвалась нейтронная бомба – ибо как еще можно объяснить тот факт, что буквально все закрыто и на улицах никого нет? Впрочем, какие бы объяснения ни подыскивались безлюдию этих мест, главное – это то, что они действительно безлюдны. Они безлюдны, как почти безлюдны метафизические ландшафты де Кирико, и здесь, в Нефели, я начинаю чувствовать себя одним из его персонажей. Иногда мне даже кажется, что, если я взгляну в зеркало, то вместо своего лица увижу пустой овал манекенной болванки. Я увижу что-то похожее на голову Прорицателя, изображенного де Кирико на одной из самых завораживающих его картин. А может быть, я не увижу ничего, кроме отражающейся в зеркале пустоты интерьера, но и это будет соответствовать духу метафизической живописи, духу де Кирико…
3В землю гордых коней, мой гость,Ты пришел, красоты отчизну дивной —В край блестящий Колона; здесьДень и ночь соловей поет;Звонко льется святая песньВ шуме рощи зеленой.Люб ему темнолистый плющ,Люб дубравы священной мрак,Кроткого бога листва многоплодная,Приют от бурь и зноя;Всегда с сонмом вакханок здесь,Всегда в пляске ночной резвясь,КружитсяОн сам – Дионис желанный.4Эгейское море волновало меня с самого раннего детства. Со всеми другими морями было все понятно: Черное море называлось так потому, что было черного цвета, Белое море было белого цвета, Красное море было красного цвета, Балтийское море называлось так потому, что там постоянно болтало корабли. Орфографические несоответствия меня тогда нисколько не беспокоили, но волновало то, что оставалось непонятным: откуда Эгейское море получило свое название. Один из первых моих текстов носил заглавие «Почему море называется Эгейское». В нем говорилось о том, как царь Эгей, увидев черные паруса, которые его сын Тесей в спешке забыл заменить на белые, бросился в море и утонул, даровав тем самым морю свое имя. Эту историю впервые рассказал мне мой папа, и она так взволновала меня, что я просил его рассказывать мне ее снова и снова во время наших бесконечных прогулок по Новослободской улице, по Бутырскому Валу и по Ленинградскому проспекту, представлявшему собой тогда бульвар, обсаженный большими деревьями. История начинала рассказываться с конца, когда мы выходили из подъезда нашего дома № 52 по Новослободской улице. Эгей бросался в море, когда мы проходили мимо Скорбященского монастыря и ворот Зуевского парка. Для того чтобы разобраться в причинах, заставивших Тесея забыть о замене черных парусов на белые, требовалось какое-то время, и этого времени хватало как раз на то, чтобы подойти к Савеловскому вокзалу и свернуть на Бутырский Вал. Идя по Бутырскому Валу с папой, мне так никогда и не удавалось выяснить, что же произошло на острове Наксос между Тесеем и Ариадной, но время, как всегда, поджимало, и мы подходили к Белорусскому вокзалу, где наступал момент, когда нужно было говорить уже о том, что происходило на Крите. Путь по бульвару Ленинградского проспекта сопровождался рассказом о том, что каждые девять лет семь несчастных афинских юношей и семь несчастных афинских девушек должны были направляться на остров Крит на съедение ужасному чудовищу Минотавру, а также о том, что сын афинского царя Эгея Тесей добровольно согласился стать одной из жертв. Корабль на Крит отправлялся под черным парусом, но Тесей взял с собой белый парус, под которым он должен был вернуться домой после победы над чудовищем. Пока мы шли мимо гостиницы «Советская» и стадиона «Динамо», напряжение повествования и моих вопросов все возрастало и возрастало, и вот наконец Тесей убивал Минотавра. Он убивал его как раз тогда, когда мы подходили к Петровскому подъездному дворцу, и помпезно-экзотический облик этого странного сооружения навсегда слился в моем сознании с победой Тесея и нитью Ариадны, помогшей ему найти выход из лабиринта. Одно время я всерьез полагал, что центральный вход во дворец и был входом в тот лабиринт. Став постарше, я понял, что это не так, но связь дворца с лабиринтом и с победой над Минотавром осталась в моем сознании, и я ощущаю ее даже сейчас.
В этом переплетении событий древнегреческого мифа с маршрутом наших московских прогулок можно усмотреть следствие стихийного, неосознанного использования методов античного искусства памяти, о котором писали Цицерон и Квинтилиан и которое является частью риторского искусства. Суть этого искусства заключается в мнемоническом соединении мест и образов – loci и images. Для того чтобы запомнить последовательность мыслей и образов, которую необходимо воспроизвести при произнесении речи, нужно соединить каждую из этих мыслей и каждый из этих образов с каким-нибудь знакомым местом, ежедневно находящимся перед глазами, например с разными комнатами собственного дома. Какие-то мысли и образы нужно поместить в кабинет, какие-то – в гостиную, какие-то – в туалет, а какие-то – в переднюю. При произнесении речи нужно мысленно проходить по комнатам своего дома в установленном порядке, и тогда последовательность мыслей и образов, обусловленная порядком прохождения комнат, будет выстраиваться в речи как бы сама собой. Такой методикой пользовались римские риторы, но у меня получалось нечто противоположное. Если римляне воскрешали память об очередности образов с помощью последовательности знакомых мест, то в моем случае образы древнегреческих мифов, становящиеся осязаемо живыми здесь, на берегу Эгейского моря, вели к воспоминаниям о тех местах, где я впервые услышал о них и где протекало мое детство. И вот я вновь оказываюсь на Новослободской улице возле Савеловского вокзала, вновь вместе с папой иду по Бутырскому Валу, вновь смотрю с затаенным страхом, слушая его рассказы, на таинственный вход в Петровский подъездной дворец, и все это происходит здесь, в Нефели.
Нефели – это не просто наш с Таней дом, это воплотившийся каким-то парадоксальным образом дом моего детства на Новослободской улице, в котором я очутился неким неведомо чудесным способом вопреки всем законам нашего мира. Не хочется говорить пошлости, но все же трудно не сказать, что Нефели – это не только дом моего детства, это – дом детства всей европейской цивилизации. Греция – наша общая колыбель. Впрочем, я больше не буду ничего говорить об этом, не то скажу еще что-нибудь более пошлое…
5…А место здесь святое:Все виноградом поросло оно,Маслиной, лавром; рокот соловьиныйПовсюду льется в зелени ветвей.6Говорить о том, что Греция – колыбель нашей цивилизации, конечно же, пошло. Но это не просто пошло – это еще и неверно. Колыбель – это то, в чем человек пребывает и что со временем неизбежно покидает, то есть нечто такое, что остается в прошлом. Но Греция – это не только прошлое нашей цивилизации. Это ее настоящее и будущее. Греция – генетический код, устанавливающий закон и порядок цивилизационных перемен. Греция – это не только Олимп, Парнас, Кипр или Лесбос. Греция – это еще и Афон, и Метеора, и, может быть, в первую очередь Патмос. Мне кажется совершенно неслучайным то, что тайна кода цивилизационных изменений была явлена святому Иоанну Богослову не в Иудее, а именно на острове Патмос. Греция – это то, что постоянно изменяется и изменяет все вокруг. Греция – это то, к чему наш мир возвращается снова и снова в каждой новой точке своих изменений. В популярном ток-шоу «Место встречи» симпатичный и разбитной телеведущий Андрей Норкин после каждой рекламной паузы заявляет: «Это место встречи, где все становится ясно». Не знаю, что может стать ясным на телевизионном ток-шоу, но точно знаю, что Греция – это не просто место, где все становится ясно, это место, откуда все становится видным. Откуда можно приметить то, чего невозможно увидеть, даже находясь в Гималаях и на Тибете. Конечно же, там можно познать собственную сущность, впасть в нирвану или даже достичь нирвикальпа-самадхи, но только в Греции можно воочию увидеть тайные колеса судьбы, приводящие в движение механизм истории нашей цивилизации, как увидел их святой Иоанн Богослов, оказавшись на острове Патмос. Только в Греции можно осознать, что такое современный мир, в какой точке своих изменений он находится и в какой точке его изменений находится мое «я». Для этого нужно совсем немного. Нужно просто посмотреть в окно нашего с Таней дома. Выглянуть из окна, откуда все видно.
Что же я вижу из нашего окна? Я вижу аккуратно подстриженный газон. Я смотрю на него с высоты второго этажа и вижу мощенную плиткой дорожку, которая ведет к воротам. Справа от ворот возвышается небольшой хозяйственно-административный домик. Раньше в нем дежурил Георгас со своей лохматой собачкой, а теперь тут располагается что-то вроде рецепции. Сразу из ворот можно выехать на пустынную дорогу, которая тянется вдоль берега направо и налево. Прямо напротив нашего окна, за дорогой, располагается маленькая часовенка XVI века, где хранится чудотворная икона Божией Матери Фанеромени с отпечатками ног поправшего ее турецкого паши. Часовенка находится чуть ниже дороги, и поэтому от нас видна только ее верхняя часть с черепичной крышей и лестница, ведущая от дороги ко входу. Несколько невысоких деревьев, окружающих часовенку, образуют некое подобие шатра, под прохладной сенью которого так хотелось бы оказаться, наверное, тем, кто проходит или проезжает сейчас по этой пустынной дороге. А дальше за нашими воротами, за пустынной дорогой, тянущейся вдоль берега, за старинной часовней, окруженной деревьями, до самого горизонта простирается Эгейское море, то самое море, которое с самого раннего детства не давало мне покоя. А еще дальше, за горизонтом, в предрассветных сумерках или перед самым заходом солнца иногда начинает выступать контур Олимпа. Днем его не видно, но присутствие его постоянно ощущается, ибо фактически он не становится невидимым, но, просто сливаясь с небом, становится частью неба, которым, будучи небесной обителью богов, по сути дела, и является. А еще выше небо горизонта, небо Олимпа переходит в небо Патмоса, в небо, стремящееся к зениту, в небо, тайные знаки которого дано было прочесть святому Иоанну Богослову. Я, конечно же, не вижу этих знаков, но я вижу место, где они были явлены. И все это я вижу из окна нашего с Таней дома, и все, что я вижу, – это не просто небо, не просто гора, не просто море и не просто берег. Хотя в то же самое время это именно небо, именно гора, именно море и именно берег, но все это наполнено таким бесконечным количеством мифических, богословских, исторических и цивилизационных смыслов, что и небо, и гора, и море, и берег – все это превращается в некие всеобъемлющие знаки всеобъемлющей книги. Впрочем, мысль о книге здесь не очень подходит. Книгу нужно листать, читать, из нее нужно что-то постепенно узнавать, здесь же не требуется ничего такого – здесь дано все сразу и навсегда. То, что я вижу, – это не книга, а всеобъемлющая визуальная формула цивилизации. Я называю ее иероглифемой. Иероглифема есть то, что содержит в себе и испускает вовне некое невербальное знание, которое невозможно пересказать и которое можно только увидеть. И увидеть это можно только здесь, в Нефели.
7Не следует думать, что иероглифема Нефели представляет собой какой-то визуальный феномен местного значения наподобие Ниагарского водопада или Великого каньона. Иероглифема Нефели – это действительно универсальная формула цивилизации, магический кристалл, через который видно все, что происходило, происходит и будет происходить в мире. Иногда у меня складывается впечатление, будто нам с Таней каким-то дурацким образом достались билеты на самые лучшие места в партере, откуда видно все, что происходит на сцене. Те, кто смотрит на все это из Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Амстердама или Шанхая, смотрят даже не с галерки, – они не смотрят на это даже по монитору, они вообще не могут быть теми, кто смотрит, потому что являются теми, на кого смотрим мы с Таней, сидя здесь, в Нефели. Они актеры, а мы зрители. Вообще-то мы тоже были актерами и в каком-то смысле продолжаем ими быть, но вместе с тем мы все явственнее и отчетливее превращаемся в зрителей. Художественная московская жизнь выталкивает нас как пробку из бутылки шампанского. Она выталкивает нас, как Анатолия Васильева и память о Юрии Петровиче Любимове, несмотря на всю суету вокруг его столетнего юбилея. Не так давно в Москонцерте упразднили наше с Таней общее детище – ансамбль Opus posth. Его упразднили в рамках государственной кампании по борьбе с бедностью. Исходя из ее концепции, московские музыканты должны получать зарплату в размере не менее 40 000 рублей, тогда как музыканты Opus posth получали около 20 000. Для решения этой проблемы был использован давно известный способ: лучшее средство от перхоти – гильотина. Реализуя его, музыкантам Opus posth просто не продлили контракты, в результате чего ансамбль прекратил свое административно-официальное существование, превратившись в собрание любителей-энтузиастов. Все это до боли напомнило мне скандальную историю изгнания Васильева из собственного театра и из России и не менее скандальные театральные мытарства Любимова. Но если все произошедшее с Васильевым и Любимовым вызвало огромный общественный резонанс, сопровождаемый невиданным накалом страстей, то уничтожение ансамбля Opus posth осталось практически незамеченным. Не то что никто не заступился за нас – никто об этом и не узнал. Даже мы с Таней отнеслись к этому спокойно и без всяких переживаний. Как бы то ни было, это событие представляется мне достаточно значимым, ведь в нем заключено не что иное, как знак судьбы, возвещающий о том, что эпоха Opus posth завершилась окончательно и бесповоротно.
Ранее я писал о том, что дата конца света (21 декабря 2012 года), заимствованная из календаря древних майя, знаменует в моей жизни окончание времени зоны Opus posthumum и начало времени зоны Opus prenatum. И я писал даже, что точно знаю об этом. Но знать – это одно, а получить фактическое подтверждение – совсем другое. Упразднение ансамбля Opus posth явилось фактом, доказывающим истинность моего знания об окончании эпохи Opus posth. Что же касается моего знания о наступлении времени зоны Opus prenatum, то его фактическим подтверждением стало то, что мы с Таней оказались здесь, в Нефели. Собственно говоря, Нефели – это и есть зона Opus prenatum. Нефели – это место, где перестаешь быть актером и откуда все становится видным…
8Здесь, небесной росой взрощен,Вечно блещет нарцисс красой стыдливой,Девы-Коры венечный цвет;Вечно рдеет шафрана здесьЯрый пламень над пеной волнВдоль ручьев неусыпных.В них Кефиса журчат струи;День за днем по полям они,Грудь орошая земли материнскую,Живой играют влагой.О, хор муз возлюбил наш край,И в златой колеснице к намНисходитВолшебница Афродита.9Что же видно отсюда, из Нефели? Отсюда виден мир как прошлое. Это не означает, что мира больше нет. Мир есть, но он есть как прошлое, и именно это можно увидеть из Нефели. Еще отсюда видно, что история закончилась и начался конец света. Ошибаются те, кто полагает, что конец света непременно представляет собой нечто вроде космической, экологической, техногенной или климатической катастрофы, моментально уничтожающей нашу цивилизацию и жизнь вообще. Такая катастрофа – это не конец света, это просто п…ц. Ну, еще можно сказать, что это конец света для тупых. На самом же деле конец света – это не одномоментное событие, но длительный и сложный процесс, который нужно еще суметь увидеть и осознать, что далеко не каждому дано. Конечно же, большинство людей полагают, что никакого конца света пока не наступило и что они все еще живут на свете. Но у тех, кто так думает, просто не все в порядке со вкусом. Вернее, у них совсем нет вкуса. Они не знают, что такое свет, как не знают и того, что значит жить на свете, который еще не несет на себе явных признаков конца света. Они просто не помнят этого или делают вид, что не помнят.
Арт-директор «Фаланстера» Борис Куприянов как-то сказал про меня, что я «такой не очень веселый обэриут, который живет после Апокалипсиса». Я польщен этими словами, но в них есть одна неточность: я живу не после Апокалипсиса, но во время него. Если бы я был древнерусским летописцем, то, наверное, начал бы свое повествование так: «Пишу сие в пятое лето от наступления конца света». И действительно, если согласиться с тем, что дата 21 декабря 2012 года маркирует начало конца света, а эти строки я пишу в середине 2017 года, то получается, что вот уже пять лет, как мы не живем на свете, ибо уже пятый год конец света для кого тайно и незаметно, а для кого явно и совершенно открыто шагает по планете. Пять лет конца света – что это такое? Или, говоря по-другому, каково жить на свете, которого больше нет?
Я как-то писал уже о том, что, попав в пещеры Элоры и Аджанты в самом начале 2014 года, вдруг почувствовал, что мир никогда уже не будет даже таким жалким, каким он был в только что ушедшем 2013 году, ибо под отрешенным, каменным взглядом Будды и Махавиры мир превращался в нечто такое, о чем лучше помалкивать, и все последующее оказалось неопровержимым подтверждением тогдашних моих предчувствий. Происходящие события вдруг утратили смыслообразующую историческую силу. Они перестали быть историческими событиями и превратились в какой-то трэш, ибо история прекратила наполнять их изнутри. Конец истории вовсе не означает, что с какого-то момента перестают происходить события. События как раз происходят, и их становится как никогда много, но это уже не исторические события в прежнем смысле слова. И предвыборная кампания Трампа и Клинтон, и предвыборная кампания Марин Ле Пен и Макрона, и процесс над Pussy Riot, и концерт Гергиева в Пальмире – все это лишь симулякры исторических и культурных событий. Все это трэш. Как ни ужасно это признавать, но даже такие трагические и близкие нам события, как те, что происходят на Украине, несмотря на весь их драматизм и гибель людей, не являются подлинно историческими событиями, ибо стремление стать Европой, которой, по мнению многих западных интеллектуалов, давно уже нет, обессмысливает все, что там происходит. Конечно же, все это ужасно, но что делать, если происходящее освобождается от присмотра истории и полностью отдается на откуп конца света, утрачивая какой-либо внутренний смысл?
Наверное, последним событием мировой истории следует считать показательную публичную казнь жирафа Мариуса, произошедшую в январе 2014 года. Мне кажется, совершенно неслучайно в качестве главного действующего лица для своего последнего события история избрала именно жирафа, а не какое-нибудь другое животное и уж совсем не человека. Жираф в каком-то смысле апокалиптическое животное с богатым живописным бэкграундом. Он присутствует и в раю у Босха, и на проповеди святого Марка в Александрии у Джентиле Беллини. И конечно же, жираф – это животное, которое горит гораздо лучше и эффектнее всех прочих животных из-за большой площади возгорания, образуемой длинной шеей, что, собственно, и доказывает знаменитая картина Сальвадора Дали. Мне кажется, именно поэтому жираф и был избран в качестве жертвенного животного при жертвоприношении в честь окончания истории и начала конца света.








