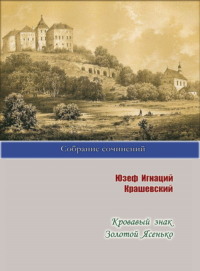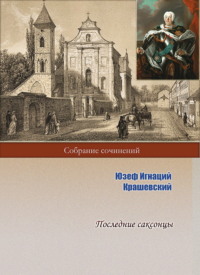Полная версия
Стременчик
Свадьба Ленхен! И нужно было, чтобы судьба привела Гжеся именно в этот день и час, когда она состоялась?
Бедняга остановился с заломленными руками, а внутренний голос говорил ему:
– Так хотела твоя судьба, чтобы указать дорогу и предназначение!
Хоть не признавался в том самому себе, Стременчик питал какую-то надежду, что Ленка о нём будет помнить, что, может, был бы… Кто же знает?
В первом запале он отказался от неё ради науки, добычи, какую уже приобрёл и будущего.
Однако Дрышек так всё пожертвовал ради дочки солтыса!
Он грустно усмехнулся. В его жизни всё было как бы заранее предназначено для него, какая-то сила указывала ему дорогу, которою он должен был идти. Сопротивляться ей не мог…
Он поднял глаза и, глядя издали на весёлую толпу, осаждающую дом, среди которой нельзя было различить людей, он рассуждал, должен ли был зайти на свадьбу? Или убежать от неё?
Но зачем было убегать? Ведь там о нём забыли и ни у кого сердце не резало от тоски. Ленхен вовсе не помнила товарища и учителя. А он?
Должен ли он быть слабее их и плакать из-за потерянной игрушки? Он имел в жизни более важную цель.
С такими мыслями Гжесь неспешным шагом начал приближаться к дому Бальцеров, повторяя, что было чудом Божьим послать его в этот день и час, чтобы разорвал последний узел, коий не позволял ему услышать призыва.
– Облачение клеха! Келья монастыря! Одинокая жизнь до смерти, это моё предназначение!
Он шёл, всё смелее направляясь к дому, хоть горько было у него в душе, будто полынью заплыла, решил быть весёлым.
Ему это казалось долгом.
– Буду им играть и петь, и смеяться, как будто был самым счастливым, – говорил он про себя, – иначе зачем идти к ним.
К порогу трудно было протиснуться, большая часть гостей стояла на крыльце и в сенях, а оттуда были видны заставленные столы, даже на внутреннем дворе, который очистили и посыпали ароматной травой. У порога стояли музыканты, играя пискляво и странно, но их никто не слушал, потому что подвыпившие гости уже пели и громко разговаривали.
Гжеся, который в этот день был богато одет по-немецки и выглядл красиво, не узнавал никто.
Смотрели на него, подрозумевая пришельца… Бальцер, Бальцерова и молодая панна были внутри дома. Одна старая служанка, что некогда о нём заботилась, когда был студентом, неся оловянные тарелки, когда случайно огляделась, увидела его, остолбенела от удивления, крикнула, и тарелка с рыбой, которая на ней была, выпала из её рук.
На звон прибежала Бальцерова, не ведая, что случилось… и та сразу узнала Гжеся. Побледнела, онемела, но вскоре, придя в себя, приблизилась к нему.
Стременчик тем временем делал всё, что мог, чтобы показаться весёлым.
Сложилось так, что, прежде чем мещанка могла добраться до такого неожиданного, а может, нежеланного, гостя, Лена, которую муж вёл к столу на предназначенное ей место, на мгновение показалась в дверях.
Взгляд её побежал к матери, она побледнела и вскрикнула.
Случился переполох, потому что никто не мог угадать причины, от чего молодая госпожа встревожилась. Это приписывали жаре и усталости, так что наполовину бессознательной мать и молодой пан едва помогли, чтобы не упала.
Гжесь, хоть не видел ничего, кроме её лица, очень изменившегося, похорошевшего и грустного, узнал её с первого взгляда.
Она была чудесно прекрасна и красива как ангел, а богатый наряд, белые ободки, драгоценности, которыми была покрыта, увеличивали красоту личика, среди множества красивых, свежих и молодых выделяющегося чистотой черт и благородным их выражением.
Рядом с ней Гжесь в молодом, румяном, по-своему также красивом юноше, которого молодость и здоровье, и какое-то добродушие весёлого и честного лица делали достаточно милым, угадал будущего мужа Лены.
Был это сын богатого купца из Ниссы в Силезии, которого по имени звали Фрончком.
Обморок молодой девушки и замешательство, которого он был причиной, прдолжались недолго. Поскольку на свадьбах на всё обращали внимание, а каждое малозначимое приключение суеверно казалось пророчеством будущей жизни супругов, мать подбежала к дочке, шепнула ей что-то на ухо, и через мгновение Фронек уже вёл пришедшую в себя Лену.
Поднимаясь, она бросила взгляд в сторону двери, её взор встретился со взглядом Гжеся, она ему грустно улыбнулась.
Теперь мать с такой же вынужденной улыбкой, как дочка, протиснулась через групу гостей и приблизилась к стоящему у порога.
Она сердечно приветствовала Гжеся, но на лице её рисовалась грусть.
– Подойдите ближе, – сказала она, вводя его внутрь. – Вы странно выбрали день своего возвращения. Знаете, мы тут уже считали вас погибшим. Ходили разные вести. Нас уверяли, что вас постигло несчастье. Лена оплакала своего учителя. Ведь это пять лет!
Толстый Бальцер, который от жары, парадного костюма и усталости весь был как из бани, вышел красный и мокрый, шёл также приветствовать Гжеся; не такой удивлённый и взволнованный, как другие.
Студент тем временем изо всех своих сил старался показать себя очень весёлым. Специально громко смеялся, начинал шутить и принимал вид такого легкомысленного бродяги, каким никогда не был.
Поскольку свадебное общество состояло по большей части из немцев, Гжесь должен был пользоваться их языком, но он так им владел теперь, что не хотели верить, что он был поляком.
– Что удивительного, – воскликнул он, обращаясь к окружающим немцам, – я был бы бездарностью, если бы, пять лет таскаясь по Германии, не усвоил их речь. Без упрёка к вам, господа, что тут в Кракове по двадцать лет сидите, а польский язык мало знаете.
Не скоро после этих первых бесед Бальцерова привела Гжеся к молодой пани, чтобы также ближе её приветствовал и познакомился с Фрончком.
Лена давно преследовала его глазами, а когда подошёл, она вытянула к нему руку, говоря мужу:
– Это мой учитель, о котором я тебе рассказывала. Смотрите, чтобы были друг с другом добрыми приятелями.
Фрончек, сердечный парень, тоже без малейшей ревности встал обнять Гжеся, с честной улыбкой, и выразил это просто, как радуется, что на свадьбе Господь Бог дал ему гостя такого приятного его жене.
– Видит Бог, – отозвался Гжесь, постоянно прикидываясь весёлым, – что меня сюда принесла чистая ирония судьбы, почти чудом. Ведь, входя на улицу, я о свадьбе вовсе не знал, а Дрышек, которого вчера встретил на дороге, хотя я спрашивал его о семье Бальцеров, ничего мне об этом не напомнил.
Бальцерова сразу посадила Гжеся к молодёжи, дав ему хорошее место, с которого он мог присматриваться к молодой девушке.
Она сидела грустная, но это известная вещь, что молодая жена на своей свадьбе слишком радость показывать не должна.
Поэтому это никого не поразило. Зато Фрончек смеялся, шутил, наливал, и шутам, что к ним приближались, сыпал пригоршней деньги в подставленные колпачки.
Общество составляли преимущественно мещане купцы и немцы, хотя духовных лиц и клехов также в нём несколько находилось. Те, узнав, кто такой был Стременчик, и вспомнив, что тут о нём рассказывали, сразу прильнули к нему. А так как вина и мёда было вдоволь, и в головах кружили весёлые мысли, вспомнили пение Гжеся и его голос.
Что если его тогда обступить и попросить песенку?.. Цитра нашлась под рукой. Её вложили ему почти силой. Старая Бальцерова, хозяин, молодая пани и её муж так усиленно настаивали, что, хоть, может, петь ему не хотелось, поддался просьбам.
Музыкантам и шутам наказали молчать, а Гжесь, перебирая пальцами по струнам, начал с немецкой песенки.
Он долго её выбирал в уме, потому что было из чего; не хотел грустную, не мог весёлую, поэтому запел нейтральную о семи желаниях:
Hält ich siben Wünsch in meiner Gwalt…
Её все знали, но голос Гжеся, даже для тех, кто слышал его раньше серебряным, детским, сладким, зазвучал так, что самые дальние пирующие вскочили с лавок, подбегая ближе, чтобы его лучше слышать.
Разошлось с такой силой, с таким звуком, что даже те, что поначалу пренебрегали этой демонстрацием, замолчали в удивлении. Никто там отродясь такого пения не слышал; искушённого, смелого, долгим опытом сделанного послушным инструментом господина. Песня, казалось, ничего не стоила тому, кто её пел, давалась ему легко, без усилия, как птичке на ветке.
Когда он закончил свои «Семь желаний», среди которых была и любовь красивой женщины, но втиснутая между такими потребностями жизни, что ей там стыдно было помещаться, не много обращая внимания на слова, все удивились чудесному исполнению.
Пирующие были в хорошем расположении духа, казалось, холодная песня не очень им пришлась по сердцу. Настаивали на одной из тех любовных немецких песен, которая взбудоражила бы до смеха и румянцев. Гжесь согласился, но выбрал скромную и грустную, пел её, опустив на цитру глаза, и хоть голос хвалили, требовали от странствующего студента нечто более смелого.
Он этому сопротивлялся.
– Хотите весёлую, тогда спою вам нашу, школьную, студенческую… но по латыни…
Он подхватил кубок с вином, глаза его дико засветились, силой заставил уста как-то отчаянно улыбнуться, сильно ударил по струнам и… сильным голосом начал:
Vinum bonum et suave,Bonis bonum, pravis prave…Cunctis dulcis sapor, ave!Mundana laetitia!Хоть не все понимали, весёлой, безумной ноты хватило заместо слов, все начали вторить Гжесю, топая в такт ногами и стуча в оловянные миски. Затем, точно усилие это было сверх его сил, студент выпустил цитру, залпом выпил до дна наполненный кубок и поднялся. Лицо его побледнело и изменилось, он задохнулся от притворной радости. Он вскочил с лавки, желая выйти, объясняясь изнурительной дорогой и необходимостью в отдыхе. Не смели настаивать, Гжесь через минуту незаметно вышел, бросил издалека грустный взгляд на молодую девушку, как бы прощался с ней, вмешался в толпу прохаживающихся около стола гостей и среди них исчез так, что не видели, когда он ускользнул из дома Бальцеров. Тем временем свадьба с музыкой и плясками продолжалась до белого дня…
V
В те времена, когда Гжесь прибыл в Краков, в молодой Академии прославился Амброзий Бонер; он был много старше его, но расцветающий для жизни.
В двадцать с небольшим лет он завоевал себе первый академический лавр, и когда иные его ровесники ещё учились, он уже писал комментарии к Петру Ломбарду.
Ребёнок богатой семьи, он мог надеяться, показав желание облачиться в монашеские одежды, на самые высокие должности в костёле. Ему пророчили необычайное будущее. Он светился, как бриллиант, не только среди молодёжи, но в кругу старых теологов.
Советовались с ним доктора, восхищались его лёгкостью аргументирования, диалектикой и красивым стилем все стилисты того времени.
Со знаниями, своей молодостью, семейными связями он мог быстро обеспечить себе митру, и никто не сомневался, что она его ждёт.
Но это прекрасное начало совсем что-то иное пророчило.
Будучи двадцати с небольшим лет, ксендз вдруг закрылся на Казимире в монастыре отцов Августинцев Еремитов, у святой Катарины, надел рясу, отбыл послушничество и объявил нерушимое желание посвятить остаток жизни на службу Богу и служению бедным людям.
Чудесный юноша, который в ордене носил имя Исая, стал одним из тех монахов, каких только знала старинная история древних веков. Посты, молитвы, власяница, ночные богослужения, посещения больных, погребение умерших, служение бедным поглощали целиком… В минуты отдыха он погружался в аскетические книги. Из этой жизни, целью которой было обуздать себя и достичь христианского идеала, ничто его вырвать не могло.
Учёный юноша, проницательный ум которого и чудесно приобретённая эрудиция устыдили мудрых профессоров, поседевших над книгами, не нашли у Августинцев людей, кто бы сумел его оценить, всё-таки с великой покорностью гнул шею перед начальниками, разумом и волей. Был это идеал монаха и тогда уже видели в нём при жизни благословенного.
Во время первого пребывания в Кракове, когда Исаю звали Амброзием, и был он ещё светским капелланом, Гжесь видел его и имел его расположение.
Бонер ценил живой ум юноши, лёгкое понимание, и прислуживался им для переписывания.
С того времени прошло несколько лет. Бонер заперся в монастыре…
Гжесь, вернувшись, не слышал о нём ещё, хоть во всём Кракове его ставили примером благочестия.
Сразу на следующий день после свадьбы, когда он задумчивый проходил по улице, тот случай, который в жизни Стременчика играл такую важную роль, навязал ему… Исаию, который возвращался от гробницы св. Станислава в свой монастырь. Имел он к святому мученику особенное уважение.
В этом новом одеянии Гжесь его, наверное, не узнал бы, особенно, что и лицо молодого Исаии, недавно румяное и свежее, от умерщвлений, поста, добровольного мученичества чрезвычайно изменилось.
Бледный, с впавшими щеками, в старой потёртой рясе, босой, с поранеными ногами он даже не обратил на себя внимания задумчивого студента, который со вчерашнего дня был погружён в какие-то грустные думы о будущем, борясь с собой и колеблясь ещё, что предпримет, но Бонер с той проницательностью избранных душ, которые везде ищут боль, чтобы её утешить, сомнение, чтобы его прояснить, вычитал в его лице огорчение, подошёл и поздоровался.
Гжесь не мог его вспомнить. Голос и лицо были ему знакомы, но человек казался чужим.
Монах положил ему руку на плечо и, мягко улыбаясь, шепнул, что был тем, для которого он переписывал некогда выдержки Боэция.
Стременчик только теперь узнал его и с удивлением воскликнул:
– Но что с вами стало? Эта одежда?..
– Дала мне покой, я прибился в порт… я счастлив, – сказал, улыбаясь, Бонер. – Двоим панам служить нельзя. Поэтому я выбрал того, к которому меня великая любовь тянула… окровавленного барашка на кресте.
Почти с завистью и уважением Гжесь склонил перед ним голову и вздохнул.
– Вижу по твоему грустному лицу, – прибавил отец Исаия, – что… душа твоя на перепутье и в неопределённости.
Пойдём со мной, доверься мне, разве не вымолвит через негодные уста Святой Дух, может, тебе утешение дам, а по крайней мере погорюю с тобой.
Шли так они вместе в монастырь Св. Екатерина на Казьмеж, а Гжесь тихо рассказывал о своих скитаниях.
Хотя состояние своей души он не поверил Исае, легко ему было угадать его из самого рассказа. Молчал монах, не прерывая. Вместе они вошли в келью монаха.
Отец Исая специально выпросил и занимал самую жалкую, тёмную, влажную, маленькую келью, а взгляд на неё рисовал человека, который ещё жил на свете, но уже не для света.
Не было тут ни ложа, ни постели, потому что аскет спал едва несколько часов, лёжа крестом на полу.
В углу стояла твёрдая скамеечка для молитв, а около неё разбрызганные капли засохшей крови, свидетельствующие о бичевании. Крест и череп короновали её.
То было пристанище мученика.
Монах с весёлым лицом привёл Гжеся и обратился к нему:
– Здесь счастье моё! – воскликнул он. – Нет его в другом месте!
Какая-то тревога охватила студента, который потерял дар речи.
– Говори как перед братом, что мучает, – добавил монах.
– Вы немного знаете мою жизнь, – начал Гжесь. – Я ушёл из родительского дома ради науки, потому что к ней очень стремился, ради неё голодом и холодом таскался по свету. Я не сыт, не вся наука сладкой мне кажется. Я вернулся в ссоре с самим собой. Надеть ли мне духовное облачение, или стараться служить Богу и людям в деятельной жизни, к которой тягу также чувствую?
Что делать? Что предпринять? Не знаю. Свет мне ещё улыбается, не имею силы от него отказаться, а какая-то сила толкает меня на иную дорогу. Вы, отец, ещё счастливы, потому что голос, который говорил вам, заглушил иные, а я…
Исая, слушая его, стоял, сложив руки для молитвы, и, казалось, больше, может, молится, чем слушает его, просит о вдохновении сверху.
– Что же ты принёс из того скитания по чужбине? – спросил он мягко.
– То же самое беспокойство, с каким вышел отсюда, великое сомнение, неуверенность во всём, чего я так усиленно добивался. В той человеческой мудрости, которую я желал добыть, едва рюмка уст моих коснулась, амброзия в желчь превратилась. Что издалека мне светилось, вблизи кажется презренным. Где я ожидал зерна, нашёл пустую оболочку.
Исая молчал.
– Я всё ещё желаю учиться, но есть минуты, когда наука мне отвратительна, так как чувствую, что она обманчива. Должен ли я надеть духовное облачение?
Монах подумал, дал знак рукой и пошёл к коврику для молитв, упал на колени, сложил ладони, склонил голову и погрузился в молитву.
Гжесь стоял, глядя на него с удивлением и тревогой.
В этой беседе с Богом Исая, казалось, о нём забыл, наконец он медленно поднялся. Поглядел на смиренно ожидающего.
– Не спеши с тем, – сказал он, – что должно быть делом убеждения и вдохновения. Соперничают в тебе непослушные элементы, а борьба эта, как любая в жизни, может быть плодотворной. Но в этом состоянии духа к божественным алтарям приближаться не годится. Помни, что первые христиане долго должны были стоять новообращёнными за группой верных, прежде чем были допущены к агапам.
Лучше не входить туда, откуда выходить не следует, чем внести с собой уже не возмущение, но сомнение. Твой взор ещё затемнён земным туманом, не видишь ясно, молись и работай. Когда человек бессилен, тогда стекает благодать на достойного помощи… с благодатью – спокойствие духа, и с нею спадает с глаз заслонка. Нет, не торопись!
Гжесь вздохнул свободней.
– Видишь, – добавил Бонер, – сам капеллан и монах, не тяну тебя к тому, что для меня есть портом и счастьем, ибо нужно избавиться от старого человека, чтобы быть новым, а в тебе кипит кровь и бьётся сердце.
– Значит, я обречён, – грустно прервал Гжесь.
– На борьбу, как все люди, – ответил Бонер. – Одни из них через монастырь идут к небу, другие через мир идут тернистой дорогой. И пурпур бывает власяницей и корона тернием бывает. По-разному зовёт Бог и велит служить Ему.
Как мудрые девы, жди с зажжённой лампой, смотря, чтобы она у тебя не погасла.
Стременчик приблизился, взволнованный, и поцеловал ему руку. Бонер замолчал.
– Ты останешься в Кракове? – спросил он через минуту.
– Мне опротивели скитания, – ответил Гжесь, – хочу слушать науки в нашей Академии и ей служить. Позволите, отец, в часы сомнений и терзаний об утешении и помощи вас просить?
– Видишь, – сказал Бонер, – что я сам первый обратился к тебе. Как служу всем, так и тебе хочу служить советом и утешением. Иди с Богом в мире…
Монах обнял его, показывая ему как бы великое милосердие, в чём Стременчик, хоть видел некоторое утешение, чувствовал также предвидение тяжелых битв, какие его ждали на свете, и которые благословенный монах предчувствовал заранее.
В конце концов, воодушевившись этим советом и укрепившись в решении ждать, чтобы призвание к духовному сану сильнее в нём объявилось, вышел Гжесь из монастыря и вернулся в город.
У него оставалось много дел, а сперва поискать жильё, потому что ксендзу Вацлаву не хотел быть обузой.
С этими мыслями он входил на краковский рынок, когда увидел одного из вчерашних участников застолья, ранее также ему знакомого купеческого сына, которого звали Гонской, в весёлом настроении направляющегося к Сукенницам.
Гонска узнал его издали и остановился…
От вчерашней свадьбы и пиршества у него ещё что-то осталось от хорошего настроения. Он начал подзывать к себе студента.
– Вы вчера сбежали с поля, не отстояв плаца, – сказал он весело, – вас искали напрасно…
– Не удивляйтесь этому, – отпарировал Гжесь. – Что мне, грустному и уставшему, делать среди весёлых?
– Мы бы вас напоили и развеселили.
– Или я бы вас отрезвил и тоску навёл. Забот имею достаточно и дел много.
– Кто бы этому верил, – рассмеялся Гонска, – разве мы вас раньше не знали, не знали, что умели со всем справляться? Так из сегодня. Не напрасно у вас голова на плечах.
– И голова мало поможет, когда не за что зацепиться, – грустно отозвался Гжесь.
– Ну, говорите ясней, чем так беспокоитесь?
Стременчик не хотел ему исповедаться в настоящей заботе, человек был слишком легкомысленный, чтобы его понять, поэтому, неохотно объясняя, рассказал, что даже постоялого двора себе ещё не нашёл.
– Так рассказывайте, – прервал Гонска, – и пойдёмте со мной. Знаете, или нет, но от отца я наследовал дом на Гродской, живу один с матерью, комнат достаточно пустует… Выберете себе, какую захотите.
– Сдадите мне её?
– Отдам или сдам, как пожелаете, – отозвался Гонска. – Я знаю то, что вы должны писать, а для письма нужен свет; над крыльцом есть комнатка, лестница к ней неособенная, но ноги у вас молодые.
– Пойдём, – сказал Гжесь.
Так быстро нашлось жильё. Каморка была почти пустая, а служила до сих пор только знакомым гостям, прибывающим в Краков. Гонска не требовал за неё много и добавил, смеясь, что Гжесь за каморные тот иногда песню споёт.
Тогда они спустились вниз, к старой матери Гонска, которая сидела в своей комнате, уже почти не в состоянии двигаться, потому что имела немощь в ногах, и из кресла присматривала за слугами и хозяйством.
Несмотря на возраст и слабость, женщина была весёлой, ей было скучно одной в доме с девками, сын редко тут просиживал; она приветствовала нового каморника с большой радостью оттого, что их в доме будет больше.
Стременчик также имел то счастье, что своей внешностью умел понравиться женщинам. Старая женщина, желая задержать их дольше, велела согреть вина для гостя и сына.
– Слава Богу, что вас мой Мацек поймал, – сказала она, – дома нас больше будет. Он не хочет жениться, хоть прошу его и сватаю; а я старая, в доме уже справиться не могу. Быть может, вы мне поможете уговорить его жениться…
Тут бабушка прервалась.
– Ты не нашёл там никого на свадьбе? – спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжала дальше:
– Если бы только хотел, имел бы Ленхен Бальцеров, ей-Богу, а девушка красивая и приданое прекрасное…
– Но! Но! Бальцеровну получить было нелегко. Правда, что красива и богата, но замуж идти совсем не хотела, и родители её едва наполовину упросили, наполовину вынудили…
– Что же у неё было в голове? – спросила старуха.
– Наверное, мечтала о пане, воеводиче или кто её знает, о ком… – говорил Гонска. – А и то правда, что, хоть муж парень красивый и не бедный, и семья достойная, едва мать её кое-как склонила…
Старушка кивала головой.
– Торговалась, – вставила она, – как они все, а такие браки всё-такие самыми лучшими бывают. Ранние по большой любви, потом только квасы и ссоры…
Гжесь, который внимательно слушал, задетый тем, что говорили о Бальцеровой, будто замуж идти не хотела, разволновался от любопытства.
– А откуда вы знаете, что дочка Бальцера не имела охоты выйти замуж? – спросил он.
– Весь город знает об этом, – сказал Гонска, – особенная была девушка, потому что Господь Бог дал ей всё, а такая ходила тоскливая и грустная, точно была самой несчастной. В конце концов кумушки открыли глаза матери, что её во что бы то ни стало нужно выдать замуж.
– Ну и хорошо её выдали, – откликнулась мать Гонски. – Муж – парень дородный, добрый, степенный и не жестокий.
Сын ударил пальцем в лоб, женщина это заметила.
– Это что? – прервала она. – Разве она за двоих разуму не имеет? Всё-таки все и о том знают, что она для женщины аж слишком масла имеет в голове. Не знаю, не лгут ли, но рассказывали, что её кто-то тайно научил читать и писать.
Гжесь покраснел и опустил глаза.
– Разве она после этого, – добавил Гонска, – хотела бы шить и за кухней следить?..
Мать это не отрицала. Стременчик не вмешивался в разговор. Затем хозяин встал и сказал:
– Вы не пойдёте сегодня к Бальцерам? Свадьба продолжается и, наверное, ещё несколько дней протянется. Я также загляну, пойдёмте со мной.
Заколебался Гжесь, его туда очень тянуло, какое-то опасение отталкивало. Идти туда, чтобы его сердце больше болело? Никогда он, по правде говоря, на сильную приязнь к своей ученицы никаких надежд не возлагал; он знал, что бедный парень, хоть шляхетство его что-то значило, богатой купцовой дочки не мог достичь и, однако, теперь, когда видел её замужней, ревность и какое-то чувство непередаваемой боли щемило ему сердце.
Не дождавшись ответа, Гонска начал настаивать сильней:
– Пойдёмте со мной. Вчера на вас там все оглядывались, будут вам рады…
– Вы тоже были на свадьбе? – спросила старуха.
– А как же! – сказал Гонска. – Он, по-видимому, старый знакомый Бальцеров, и очень сердечно его там приветствовали.
Стременчик с горькой усмешкой обернулся к хозяйке.
– Да, – сказал он, – когда я бедным студентом прибыл в Краков, уже много тому лет назад, первые меня кормили Бальцеры…
Старушка покачала головой, Гонска тем временем тянул его за рукав и настаивал: