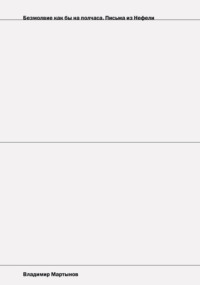Полная версия
Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково
Вкус бисквита, которым мама угостила Пруста промозглым зимним днем, обернулся вкусом бисквита, который каждое воскресное утро тетя Леония предлагала Прусту во времена его счастливого детства в Комбре. То, что располагалось на плоскости, образованной последовательностью повседневных событий, вдруг оказалось идентичным тому, что таинственно хранилось в бездонной глубине памяти, в результате чего то, что таилось в этой глубине под спудом забвения, вдруг оказалось тем, что находится снаружи, над поверхностью событий. Причем это забытое, хранящееся в глубинах памяти не просто вышло наружу, но вместе с собой оно вывело всю совокупность ассоциирующихся с ним зрительных, слуховых и осязательных образов, то есть вместе с собой оно вывело утраченную реальность, в результате чего утраченная реальность обернулась обретенной реальностью, а плоскость повседневного существования обернулась бездонной глубиной бытия.
Если в случае Пруста виной всему было бисквитное пирожное, по счастливой случайности предложенное ему мамой в один из зимних дней, то в моем случае причина заключалась в самом тексте Пруста, который я решил процитировать в своей книге и соприкосновение с которым, происходящее прямо сейчас, когда я пишу эти строки, вдруг стало оборачиваться другим соприкосновением с этим текстом, произошедшим около шестидесяти лет тому назад, во времена моего счастливого отрочества на улице Огарева. Соприкосновение, которое располагалось на плоскости докучливой последовательности нынешних событий и фактически являлось одним из них, вдруг оказалось идентичным тому соприкосновению, которое таилось в глубине моей памяти, в результате чего соприкосновение, таящееся в моей памяти, прорвало плоскость текущих событий и стало тем, что находится снаружи, а оказавшись снаружи, оно сделало обозримым все обстоятельства, все мельчайшие детали, которые окружали его и сопутствовали ему в те блаженные времена. Я вспомнил все. Я вспомнил все до последней мелочи. И самое главное, я вспомнил того, кто спровоцировал мое соприкосновение с текстом Пруста. И, вспомнив все это, я вдруг понял, к кому могла бы быть обращена эта книга и кому могли бы быть адресованы письма из Петраково, но разговор об этом придется временно отложить, ибо сейчас нужно вновь вернуться к Прусту.
«И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя (хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание, и вынужден был надолго отложить разгадку), в то же мгновенье старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился, как декорация, к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей (только этот обломок старины и жил до сих пор в моей памяти). А стоило появиться дому – и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. И, как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водою опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь – весь Комбре и его окрестности, – все, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, – выплыло из чашки чаю».
4Столь обширную цитату я решился привести, во-первых, потому, что этот медитативный текст, мне кажется, можно перечитывать и переписывать бесконечно, а во-вторых, потому, что при попытке описания всего случившегося со мной в то утро в Петраково мне бы не хотелось заново изобретать велосипед. Зачем описывать то, что было описано уже давным-давно, и притом самым наилучшим образом? Ведь под воздействием услышанной мною песенки зяблика в моем сознании произошло практически то же самое, что произошло в сознании Пруста под воздействием вкуса бисквитного пирожного. Так что, не обременяя себя и других лишними описаниями, я ограничусь лишь тем, что квалифицирую произошедшее со мною тем утром как казус Пруста, или, если быть точнее, как эффект бисквитного пирожного Пруста. Однако, несмотря на почти буквальное совпадение исходной ситуации, конечные результаты воздействия этого эффекта на меня и на Пруста оказались в корне отличными друг от друга. В случае Пруста процесс поиска утраченного времени происходил еще в том же самом мире, в котором оно было утрачено, а потому утраченное время еще могло стать обретенным временем, воплотившись в тексте прустовской эпопеи. В моем же случае утраченное время было утрачено в том мире, которого больше нет, и для того, чтобы обрести утраченное время, мне нужно было снова попасть в тот мир, в котором оно было утрачено, в тот мир, которого больше нет и в который невозможно возвратиться. В этом смысле моя ситуация представляется мне гораздо более острой, драматичной и безнадежной, чем ситуация Пруста. Если в случае Пруста вкус бисквитного пирожного всего лишь воскрешал в его сознании зрительные образы воспоминаний, то в моем случае голос зяблика, выполняющий функцию прустовского пирожного, с какой-то беспощадной наглядностью являл мне тотальную несовместимость воскрешенных им зрительных образов воспоминаний со зрительными образами окружающей меня действительности.
В свое время Пруст задавался вопросом: «Зачем приходить под эти деревья, если никого уже не осталось из тех, что собирались под их нежными багряными листьями, если пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли?» И на этот вопрос можно было бы ответить следующим образом: «Пусть никого уже не осталось из тех, что собирались под этими деревьями и под их нежными багряными листьями, пусть пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли, но остались еще эти деревья и эти листья, которые могут предоставить приют ожившим воспоминаниям о том, что происходило некогда под их сенью. Они залог того, что утраченное время может обрести прибежище в настоящем». Но что делать, если нет уже ни этих деревьев, ни этих листьев? Что делать, если утраченным оказалось не только время, но и пространство? Что делать, если больше нет такого места, в котором утраченное время могло бы стать обретенным? Что делать, если воспоминания, поднимающиеся из глубины моего сознания, при соприкосновении с образами окружающего меня пространства рассыпаются в прах?
Вот я чувствую, как глубинные воспоминания, несущие в себе образы Звенигорода моего детства, уже готовы прорваться наружу, но от них не остается и следа в тот самый момент, когда, оказавшись в окружающей меня данности, они наталкиваются на пень – на то, что осталось здесь от спиленной липы Чехова, под сенью которой мы играли с Варей, а тетя Зина читала книжку, сидя на чеховской скамейке. Или вот я чувствую, как из глубины моего сознания прорываются наружу воспоминания и образы привольных далей Подмосковья, но и от них не остается и следа, как только они наталкиваются на трехметровые зеленые заборы, перегородившие здесь все вдоль и поперек. Что же касается таящихся во мне воспоминаний о московских улицах, то и они разделяют общую судьбу, ибо, прорвавшись наружу, они тут же вдребезги разбиваются, ударившись о собянинскую плитку. Вообще, Собянину удалось так испохабить Москву, как никакому Лужкову даже и не снилось. Наверное, жить в Москве стало гораздо удобнее, комфортнее и безопаснее, чем раньше, и, скорее всего, это действительно так, но лично для меня Москва перестала быть моей Москвой. Москва превратилась для меня в навеки утраченное пространство, которое никогда уже не станет обретенным. Она превратилась для меня в пространство, в котором уже невозможно жить и в котором можно только существовать. Откровенно говоря, я уже давно смирился со всем этим. Я смирился и с этой собянинской плиткой, превратившей центр Москвы в какую-то мертвецкую, и с этими трехметровыми заборами, перегородившими все Подмосковье, и с этим пнем, бесцеремонно напоминающим мне о конце времени русской литературы. Я не просто смирился со всем этим – я стал относиться к этому как к чему-то само собою разумеющемуся, как к чему-то такому, что всегда было, есть и будет. Я свыкся с миром, в котором утраченное время и утраченное пространство никогда уже не будут обретены вновь, как свыкся и с мыслью о том, что до конца своих дней мне придется жить именно в таком мире. Но тем утром в Петраково все изменилось, и я проснулся совсем в другом мире – в мире, в котором воскресает все забытое и обретается все утраченное. И это оказалось чем-то более чудесным и удивительным, чем ситуация, описанная Прустом.
Если во времена Пруста одного вкуса бисквитного пирожного было достаточно для того, чтобы джинны воспоминаний оказались на свободе, то в наше время пение даже самой сладкоголосой птицы уже не сможет вызволить этих джиннов из плена забвения, если оно не будет услышано в некоем эксклюзивном заветном месте, – таковы неизбежные последствия процесса всеобщей энтропии, партикуляризации и утраты целостности. Если раньше волшебная лампа Аладдина начинала действовать, где бы ты ни находился, стоило лишь чуть-чуть потереть ее, то теперь ты можешь тереть эту лампу хоть до потери сознания, и от этого не будет никакого толка, если при этом ты не будешь находиться в том единственном месте, где она только и может явить себя в качестве волшебной лампы. Теперь недостаточно просто найти и овладеть волшебной лампой – теперь в дополнение к этому необходимо знание заветного места, в котором найденная лампа может обнаружить свои волшебные свойства. Одно должно наложиться на другое, причем знание о том, где находится заветное место, не менее важно, чем обладание самой лампой, ибо без этого знания волшебная лампа превратится в обыкновенную лампу. В лучшем случае она станет антикварным артефактом, а в худшем – просто старой рухлядью, которую не жалко выкинуть на помойку.
Во всем этом есть еще одно важное обстоятельство, заключающееся в том, что ни обладание волшебной лампой, ни знание заветного места, в котором эта лампа вдруг оказывается волшебной, не могут являться результатом сознательных, целенаправленных усилий. Этого бесполезно желать, к этому бесполезно стремиться, ибо это дается само собой, причем тогда, когда этого совсем не ожидаешь. Песенка зяблика не действовала на меня потому, что до поры до времени мне не доводилось услышать ее в заветном месте, а то, что Петраково и есть то самое заветное место, я не мог догадаться потому, что до поры до времени мне не дано было услышать там этой песенки. Но вот пазл сложился, и настал миг волшебства. Как описать все это, чтобы это стало понятным не только мне, но и другим? Это можно сравнить с финалом фильма «8½», когда занавес открывается и с уже ставшей ненужной грандиозной бутафорской конструкции начинают спускаться все, кого знал Гвидо Ансельми, и все, кто окружает его сейчас. Именно так через открытое окно в нашу петраковскую спальню вдруг начали спускаться все, кого я знал по Звенигороду: мои родители, тетя Зина, тетя Груша, Алексей Иванович Машистов, Виктор Михайлович Беляев, Евгений Владимирович Шмидт, Сергей Николаевич Уткин, Клавдия Ивановна, Наталья Осиповна, все, кого я отчетливо вижу, но чьи имена я сейчас уж не могу вспомнить, и все мои сверстники, с которыми мы проводили летние месяцы в Звенигороде, – всех не перечислишь. И если раньше я только слышал зов Петраково, то теперь до меня начал доходить смысл этого зова, заключающийся в открывшейся мне возможности обретения утраченного времени, которое могло быть обретено только здесь – в Петраково. Кажется, что все это очень похоже на описанное Прустом, но именно тут заканчиваются все аналогии с ним и начинается что-то совсем другое.
Петраково – это не просто заветное место, это одно из последних пристанищ для таких людей, как мы с Таней. Это одно из последних пристанищ вайшьев в мире шудр. Именно тем утром в Петраково я четко впервые осознал, что мы живем в мире шудр – в мире утраченного времени и утраченного пространства, которые никогда уже не станут обретенными. В какой-то момент мне подумалось, что Петраково – это даже не совсем место, это портал, через который каким-то чудесным образом можно проникнуть из мира шудр в мир вайшьев, но тут же понял, что это не совсем так, ибо портал – это всего лишь проход из одного пространства в другое, это нечто такое, что лишено собственной пространственности и собственной субстанциональности, а Петраково – это именно место, это именно пространство, наполненное совершенно особой субстанцией. Быть может, все это больше всего напоминает финал фильма «Солярис», в котором главный герой заглядывает через окно внутрь родительского дома и видит там отца. Но, когда камера начинает медленно подниматься и отъезжать, то все: и дом, и вышедший на крыльцо отец, и небольшой садик, прилегающий к дому, – все это оказывается расположенным на совсем небольшом клочке суши, окруженном водой. И чем выше поднимается камера, тем очевиднее становится, что этот клочок суши является крохотным островком, затерявшимся в бескрайних просторах волнующегося океана. И я начинаю ощущать себя находящимся на этом крохотном островке, и я уже даже знаю, что Петраково и есть этот самый островок, на котором я сейчас нахожусь, который затерялся в бескрайних просторах океана шудр и который является последним прибежищем вайшьев. Это знание выплывает ко мне из звучащей за окном птичьей песенки подобно тому, как образы Комбре выплыли к Прусту из чашки чаю.
5Уже больше часа горит собор Парижской Богоматери – одно из самых известных зданий в мире. О пожаре стало известно в 19:50 по Москве.
6С тем, что упоминания о системе древнеиндийских каст и частые ссылки на нее могут восприниматься далеко не всегда однозначно, я столкнулся, когда давал знакомым читать рукопись своей предыдущей книги «Безмолвие как бы на полчаса». Именно тогда с некоторым удивлением я столкнулся с мнением, что использование понятий брахман, кшатрий, вайшья или шудра является сейчас чем-то не совсем уместным и даже чем-то компрометирующим. В наиболее мягкой форме подобные упреки сводились к тому, что любая апелляция к системе индийских каст выглядит сейчас претенциозно, высокопарно и попросту безвкусно. Более ожесточенные формы этих упреков интерпретировали любую попытку осмысления действительности с помощью апелляции к системе индийских каст как попытку утопить современные реалии в архаических категориях добра и зла, которые уже давно были разоблачены Ницше как остаточные следы отношений власти. И наконец, в самой жесткой форме эти упреки превращались в приговор, обвиняющий в латентном расизме каждого, кто так или иначе пытается ссылаться на систему каст.
Мне кажется, я хорошо понимаю мотивы этих упреков и даже могу согласиться с тем, что озвучивание их в наши дни абсолютно закономерно и неизбежно. Но в то же самое время я просто не могу не замечать их внутренней ангажированности, обусловленной их привязанностью к идеалам открытого общества. Я вовсе не собираюсь подвергать сомнению идеалы открытого общества, но вместе с тем не могу согласиться и с бесконтрольной экстраполяцией идеалов социальной открытости на понимание истории, в результате чего история превращается в нечто открытое для нашего понимания на всем своем протяжении, в чем неоднократно пытались убедить меня мои оппоненты. В подтверждение своей правоты они ссылались на пятиклассницу с белыми бантами, которая бойко тараторит доказательство теоремы Пифагора, и на первый взгляд это казалось достаточно убедительным. Действительно, то, что во времена Пифагора являлось результатом титанических интеллектуальных усилий и было доступно лишь единицам, представляя собой некое эзотерическое знание, теперь может не задумываясь прощебетать почти каждая пятиклашка в виде задорной песенки: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». И когда уже казалось, что не остается ничего другого, как только согласиться со всем этим, каждый раз мне на память приходила надпись, расположенная, по преданию, при входе в Академию Платона и гласящая: «Не геометр да не войдет». Ведь если геометрия – это не просто доказательство той или иной геометрической теоремы, но врата, через которые только и можно войти в пространство премудрости Платона, то какое отношение к этому имеет пятиклассница с белыми бантами и о чем она столь задорно щебечет?
Для того чтобы понять это, крайне полезно припомнить слова Хайдеггера из «Письма о гуманизме»: «“Этика” впервые появляется, рядом с “логикой” и “физикой”, в школе Платона. Эти дисциплины возникают в эпоху, позволившую мысли превратиться в “философию”, философии – в науку, а науке – в дело школы и школьного обучения. Проходя через так понятую философию, восходит наука, уходит мысль. Мыслители ранее той эпохи не знают ни какой-то отдельной “логики”, ни какой-то отдельной “этики” или “физики”. Тем не менее их мысль и не алогична, и не безнравственна. А “фюсис” продумывается ими с такой глубиной и широтой, каких позднейшая “физика” никогда уже не сумела достичь. Трагедии Софокла, если вообще подобное сравнение допустимо, с большей близостью к истокам хранят “этос” в своем поэтическом слове, чем лекции Аристотеля по “этике”. Одно изречение Гераклита, состоящее только из трех слов, говорит нечто настолько простое, что из него непосредственно выходит на свет существо этоса»[2]. Из этих слов можно сделать вывод, что геометрия, утратив живую внутреннюю связь с философией, превратилась в «дело школы и школьного обучения», а став «школьной геометрией», она уже больше не в состоянии обеспечить через себя связь сознания с простой всеобъемлющей мыслью Пифагора. Геометрия сделалась всего лишь пустой оберточной бумажкой, в которую эта мысль была некогда завернута.
Тут в самый раз вспомнить о Гершковиче[3], который, сравнивая великую музыку Баха, Моцарта и Бетховена с плиткой шоколада, утверждал, что хотя современные музыканты и думают, что едят этот шоколад, но на самом деле они всего лишь жуют оберточную бумажку от него. Не то же ли самое происходит и с поднаторевшей в геометрии пятиклассницей и со всеми теми, кто полагает, что все происходящее в истории открыто их пониманию и только ожидает того момента, когда оно наконец начнет быть понимаемым ими?
В этой связи мне снова вспоминается картина Де Кирико «Меланхолия и тайна улицы», о которой я много уже писал в книге «2013 год»: на ней изображена девочка с обручем, бегущая по залитой солнечным светом улице мимо темных арок к тени загадочной статуи. Тогда я высказал несколько предположений о том, кем может быть эта девочка и к чьей статуе она бежит. И вот теперь я могу предложить увидеть в этой девочке поднаторевшую в геометрии пятиклассницу, бегущую к статуе Пифагора. Интерес этого предложения заключается в том, что последовательность арок, мимо которых пробегает девочка, может быть представлена как последовательность этапов накопления знаний в истории. Подчиняясь законам перспективы, арки уменьшаются в размере по мере удаления в глубину картины, к статуе Пифагора, и, естественно, увеличиваются по мере приближения к поверхности картины и к бегущей девочке. Это вполне соответствует нашим представлениям о процессе накопления знаний, объем которых увеличивается по мере продвижения истории. И здесь возникает некоторая коварная мысль, связанная с тем, что увеличение размеров арок по мере их приближения к поверхности картины, также как их уменьшение по мере удаления их к линии горизонта есть всего лишь иллюзия: на самом деле все арки обладают одной и той же величиной – в этом легко убедиться, поравнявшись с каждой из них в реальном перемещении по пространству. Но что это значит? Значит ли это, что увеличение количества знаний есть лишь иллюзия, рожденная перспективой нашего исторического времени и нашего исторического подхода? Наверное, это не совсем так. Скорее всего, все дело заключается здесь в разнице между объемом и массой знания.
История человечества подобна истории Вселенной. По сути дела, история – это та же расширяющаяся Вселенная, в которой объем знания увеличивается, а его масса остается той же. В ходе исторического развития изначально целостное и единое знание распадается на все большее и большее количество частных, дробных знаний. Этот процесс партикуляризации, в результате которого происходит сегментирование знания, и создает иллюзию увеличения знания «как такового», в то время как на самом деле увеличивается только его объем. Увеличение объема знания делает знание более разреженным и общедоступным, что приводит к уменьшению его интенсивности, и это позволяет говорить о том, что интенсивность знания обратно пропорциональна его объему. История накопления знаний распадается на ряд исторических периодов, в каждом из которых объем знания увеличивается, а его интенсивность уменьшается, из-за чего интенсивность знания, присущая ранним периодам истории, становится практически невоспроизводимой в более поздние эпохи, несмотря на то что по видимости знание становится все более общедоступным. Если на минуту представить, что интенсивность знания – это шоколадка, а его общедоступность – оберточная бумажка, то придется признать, что Пифагор – это тот, кто ест шоколадку, а пятиклассница с белыми бантами есть та, кто жует бумажку, в которую была завернута шоколадка. И вообще, открытость исторических событий для нашего понимания оказывается чистой иллюзией, и происходит это потому, что история не подчиняется принципам открытого общества. В ней нет никаких социальных лифтов и законов, обеспечивающих наличие равных возможностей для всех. В ней доминируют кастовые законы, обеспечивающие закрытость и непроницаемость каждому отдельно взятому историческому периоду, перекрывая доступ к его пониманию любому представителю другой исторической эпохи, который попытается применить к нему свои способности познания. История – это не шахта социального лифта, из которого можно выйти на любом этаже. История – это шахта элитного лифта, из которого можно выйти только на каком-то определенном этаже, а о других этажах приходится судить только по цифрам на табло, указывающим, где находится лифт в данный момент. Конечно же, такое положение вещей не может устраивать сознание, воспитанное на идеалах открытого общества, и поэтому оно начинает искать обходные пути. Не будучи в состоянии проникнуть своим пониманием в каждый конкретный период истории, такое сознание будет компенсировать эту неспособность путем выстраивания исторических периодов в единую последовательность, основанную на какой-либо доступной этому сознанию концепции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Перевод Н. Любимова. (Здесь и далее прим. ред.)
2
Перевод В. Бибихина.
3
Гершкович Филипп Моисеевич (1906–1989) – композитор, музыковед и педагог.