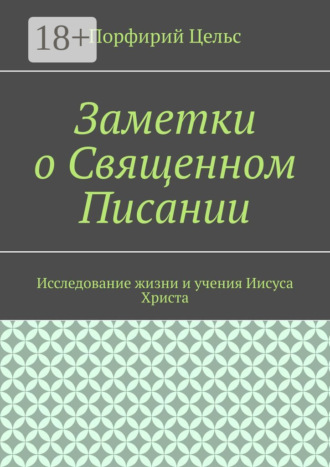
Полная версия
Заметки о Священном Писании. Исследование жизни и учения Иисуса Христа
И если в художественной литературе такая точность не требуется, то смысл Слова Божия должен доноситься до верующих в совершенно точном и неизменном виде, т.е., как минимум, на том языке, на котором это Слово было впервые произнесено или написано. С этой точки зрения хороший пример преподносит нам ислам: изначально Коран был дан на арабском языке, и до сего дня никакие переводы не в чести у мусульман. Однако и у них существуют различные варианты Корана; что уж говорить о христианстве с его обилием версий Библии (Новая международная, Исправленная стандартная, Новая исправленная стандартная, Новая американская стандартная, Новая версия короля Иакова, Иерусалимская, Благая весть – далеко не полный перечень переводов Библии только на английский язык), все тексты которых, естественно, отличаются друг от друга. Переведено, например, в ПБ: «Не определено ли человеку время на земле… [Иов. 7,1]?» А в ИБ этот стих выглядит иначе: «Человек на земле исполняет службу», причем в сноске сказано, что речь идет о воинской службе, и в подтверждение предлагается обратиться к следующему стиху: «Всё время моей воинской службы с нетерпением ждал бы, чтобы пришла мне смена [Иов. 14,14]». Видимо, эти стихи имел в виду Петрарка, когда писал: «Жизнь человеческая на земле не просто воинское служение, а бой – для разных людей разные [178, 27]». Почему в ПБ Иов не прибегает к военной терминологии, из-за чего в какой-то степени искажается смысл его высказываний, – остается для меня загадкой. Конечно, каждая из многочисленных христианских Церквей придерживается какого-то одного варианта Библии, считает его богодухновенным, что позволяет всем им (Церквам) считать друг друга неправильными.
Дело усугубляется тем, что буквы оригинала могут иметь числовые или иероглифические значения, через которые постигаются более глубинные смыслы священного текста, а они при переводе теряются начисто, сужая возможности понимания первоисточника. Французский ученый Эдуард Шюре поддерживает мнение, что Моисей написал книгу Бытия египетскими иероглифами, заключавшими в себе различные смыслы. «Он передал ключи от них и дал устные объяснения своим преемникам. Когда же, во времена Соломона, книга Бытия, – продолжает Шюре, – была переведена на финикийский язык, когда, после вавилонского плена, Ездра переписывал её арамейско-халдейскими письменами, еврейское священство владело этими ключами уже очень несовершенно. Когда же очередь дошла до греческих переводчиков Библии, последние имели лишь очень слабое понятие об эзотерическом смысле переводимых текстов. Святой Иероним… не мог уже, делая свой латинский перевод с греческого текста, проникнуть до первоначального смысла Библии [16,181]».
Вообще, проф. Лопухин полагает, что весьма трудно переводить как с греческого, так и с древнееврейского языка, только причины этого разные. «Эллинская фраза есть фраза ученая, род архитектурного здания, построенного с величайшим искусством… Для того, чтобы связать различные части, греческий язык имеет много глагольных форм, соединяющих части предложения и точно показывающих их взаимные отношения; он может также пользоваться по произволу множеством частиц речи, которыми можно выражать даже самые тончайшие оттенки мыслей. В еврейском языке нет ничего подобного… Его слово-расположение почти детское, его речь как бы расчленена; он ставит предложения за предложениями, соединяя их всё одним и тем же союзом „и“; у него нет средств выдвинуть на вид главную мысль, а предоставляется самому слушателю или читателю выбирать самое главное из того, что он слышит или читает [4,3,801]». Видимо, чтобы не затруднять овец выбором главного, «даже и в том, что касается еврейского Св. Писания… оно (христианство) „официально“ пользуется лишь греческим и латинским переводами (версии Септуагинты и Вульгаты). Что же до Нового Завета, то мы знаем, что его текст известен лишь на греческом и что именно на основе последнего были сделаны все остальные переводы, даже на древнееврейский и сирийский [38,113]». «Палестинский еврейский язык времен Иисуса Христа, – продолжает А.П.Лопухин, – стоящий ниже греческого по грамматике, пожалуй, ещё ниже его по словарю… Он не был обогащен, подобно греческому, значительным умственным трудом;… в нем мало глаголов и мало существительных и ещё того меньше прилагательных и частиц речи. Отсюда происходит то, что он должен пользоваться одним и тем же словом для выражения предметов совершенно различных [4,3,801]». При таких свойствах еврейского языка, ох, как трудно было иудейским проповедникам донести до слушателей истинный смысл своих высказываний.
Справедливости ради хочу напомнить, что многозначность слов характерна не только для еврейского языка, но в нём она просто вопиюща, особенно если учесть, что с него переводится Слово Божие. То, например, «посредством чего человек проницает, думает и желает, называется сердцем… Слово „сердце“ служит также для обозначения „совести“, равно как и других душевных способностей [4,3,815]». А используемое в Евангелиях греческое слово «тектон» действительно означает «плотник», но оно является переводом арамейского слова «наггар» («Древний еврейский язык имел весьма близкое родство с арамейским [4,3,785]»), которое означает либо человека, работающего с деревом, либо ученого или образованного человека [45,314]. По сути дела, в отношении Христа второе значение представляется более уместным. «Если на клетке слона прочтёшь надпись „буйвол“, не верь глазам своим [185,103]», – советует знаменитый русский мыслитель К.П.Прутков.
В подобных случаях может ошибиться даже весьма грамотный переводчик, если он мало знаком с той средой, в которой писался подлинник. Характерен в этом контексте неправильный перевод в Септуагинте стиха «Люби ближнего твоего как самого себя [Лев. 19,18]». Президент Израильской академии наук Мартин Бубер разъяснял: «В оригинале эта заповедь не относится ни к степени, ни к роду любви, словно бы человек должен любить другого так же сильно или таким же образом, как и самого себя (представление о любви к самому себе вообще не встречается в Ветхом Завете); на самом деле эта логия означает – „любить подобного тебе“ и подразумевает: поступай в этой ситуации таким образом, словно бы дело касалось тебя самого. Всё дело здесь именно в образе поведения, а не в чувстве [47,274]». Итак, смысл этой заповеди можно было бы выразить следующим образом: «Делай для ближнего то, что делал бы для себя». К слову сказать, в Ветхом Завете «заповеди, упоминающие „ближнего“ (как, впрочем, и все остальные), относятся только к соплеменникам – евреям. Высокоуважаемый раввин и врач XII века Моше бен Маймон объясняет: „Убивая сына Израилева, человек нарушает заповедь „не убий“. Если кто совершит убийство преднамеренно и в присутствии свидетелей, его нужно казнить мечом. Не требует пояснения, что убивший язычника не должен быть казнен“. Не требует пояснения [48,359]!» А уж к язычнику, особо досадившему евреям, они обращаются так: «Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень [Пс. 136,9]!» Псалом 136 поется и на христианских богослужениях, т.е., видимо, православные не прочь таким же образом поступать с детьми своих недругов. Но, скорее всего, прихожане не вникают в смысл песнопений, умиляясь красотой мелодий и слаженностью хора.
Значительное число ошибок происходит также по элементарной неграмотности как авторов, так и переводчиков. Например, «книга Даниила упоминает только о двух царях Вавилона, Навуходоносоре и Вальтасаре, которого автор считает сыном Навуходоносора и последним вавилонским царем [Дан. 5,2] … Последний вавилонский царь Набонид вообще не принадлежал к царской фамилии, а Вальтасар был сыном Набонида, а не Навуходоносора, и не был царем [49,304]». Если пророк Даниил ошибался в таком простом вопросе, то можно ли безоглядно доверять его пророчествам? Или вот, сказано: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого [Мф. 24,27]; ибо где будет труп, там соберутся орлы [Мф. 24,28]». В 27 стихе говорится о том, что пришествие Христа не останется незамеченным никем. При чём же здесь труп и орлы? Непонимание довольно простого смысла стиха 28, вызванное незнанием фольклора, побудило русских переводчиков к замене слова «стервятники» на более облагороженное слово «орлы» (в ИБ написано более правильное «грифы»), что в свою очередь привело проф. Лопухина к натянутому, заумному богословскому комментарию на этот стих [5,8,375]. На самом деле стих 28 всего лишь пословица, говорящая о том, что о трупе в пустыне можно легко узнать по стае стервятников, кружащих над ним, что приблизительно соответствует нашей пословице о шиле в мешке, т.е. стих 28 представляет собой нечто вроде тропа к стиху 27. Последний пример заодно показывает, что любому даже самому заурядному высказыванию Библии православные толкователи норовят придать глубокий богословский, но не всегда относящийся к делу, смысл – к вящей славе Божией. Это напоминает другую русскую пословицу – о расшибании лба во время молитвы. «Бывает, что усердие превозмогает и рассудок [185,112]», – подтверждает рассудительный К.П.Прутков.
Легко ли видеть Слово Божие в неизвестно когда, неизвестно кем написанном, неоднократно переведённом и многократно переписанном тексте? А этого от прихожан и не требуется, ибо Церковь знает, какое слово Божие, а какое – не Божие. «Когда в 30-х годах XIX в. профессор Петербургской духовной академии протоиерей Г.П.Павский сделал перевод с древнееврейского языка на русский почти всех книг Ветхого Завета,…, то перевод этот не был издан, Павскому было предъявлено обвинение в попытке подорвать православие и он был отстранен от должности [43,17]». Зато всё, что опубликовано с благословения Церкви – истина. «Давайте не будем говорить об этой шутке, согласно которой, набирая наугад типографские знаки, невозможно набрать „Дон Кихота“. Что мы наберём, то и станет „Дон Кихотом“ для тех, кому придется из этого текста исходить, сформироваться в нем и быть его частью [9,162]», – как бы иллюстрирует позицию Церкви знаменитый испанский философ и поэт Мигель де Унамуно.
О сознательном искажении
Ошибки практически неизбежны в работе переводчиков и переписчиков. Гораздо большим злом является сознательное искажение текстов. По свидетельству Е. Блаватской «достаточно почитать критику Эразма или даже сэра Исаака Ньютона, чтобы стало ясно, что еврейские священные писания подделывались и переделывались, были утеряны и снова написаны дюжину раз ещё до дней Ездры [31,226]». Следует также иметь в виду замечание известного историка христианства Эрнеста Ренана о древних переписчиках: «Книга на Востоке не копируется в точности. Её обновляют и приспособляют к моменту путём прибавлений того, что известно или предполагается известным из других сочинений… Не совестятся перепутывать в одном сочинении различные стили и авторов [199,368]». С изобретением книгопечатания невольных ошибок стало меньше за счет устранения переписчиков, но ничуть не уменьшилось количество подтасовок, фальшивок, пропусков, замен. «Не всякому слову верь [Сир. 19,16]», – предупреждает Иисус, сын Сирахов. Иосиф Сталин усиливает этот тезис: «Никому на слово, товарищи, верить нельзя [50,239]». А Эдуард Гиббон замахивается на святое: «Есть серьёзное основание опасаться, что первые отцы Церкви очень часто были клеветниками [51,2,17]». Известного английского историка поддерживает великий немецкий мыслитель Фридрих Ницше: «Ничто не является столь редким среди моралистов и святых, как честность [123,2,622]».
В.В.Болотов отмечает: «Как известно, переписчики и читатели по своему разумению поправляют самого писателя… Древность рукописи часто оказывается недостаточным ручательством её близости к подлиннику [28,1,15]». Подтверждение тому находим в «Церковной истории» Евсевия Памфила, которая «уникальна тем, что целых десять веков после её написания никто из ученых чад Церкви не брался изобразить церковную жизнь первых трех веков [54,5]». «Евсевий наивно признаётся, что в своей истории он будет выпускать всё, что может клониться к унижению Церкви, и, напротив, будет особенно распространяться о том, что может прославить её [37,276]». Так, он приводит письмо Иисуса Христа топарху Авгарию: «Блажен ты, если уверовал в Меня, не видев Меня. Написано обо Мне: видевшие Меня не уверуют в Меня, чтобы не увидевшие уверовали и ожили. А что ты приглашаешь Меня к себе, то надлежит Мне исполнить здесь всё, ради чего Я послан; а когда исполню, то вознесусь к Пославшему Меня. Когда же вознесусь, то пошлю к тебе одного из учеников Моих, чтобы он исцелил болезнь твою и даровал жизнь тебе и тем, кто с тобой [54,44]». Можно ли даже предположить, что христианин отважится на подделку слов Господа нашего и Спаса Иисуса Христа? Тем не менее последователи проф. Лопухина фактически обвиняют Евсевия в этом, написав, что «Cам Господь не оставил никаких записей Своих речей и дел [5,8,19]». Кому верить? Не могу представить себе, что составители «Толковой Библии» не читали упомянутую «Церковную историю», поэтому верю им.
Но в таком случае возникают два вопроса. Первый: «Правильно ли поняты устные речи Иисуса (а заодно и апостолов)?» Ведь люди, и пророки особенно, «часто говорят отрывками, прерывая самих себя на середине предложения, чтобы переформулировать мысль или сменить тему. Зачастую непонятно, о ком или о чём говорят, потому что говорящие употребляют местоимения (ему, им, этот), общие слова (эта история, в этом отношении) и эллипсисы [205,214]». Боюсь, что устная речь, тем более в условиях отсутствия звукозаписывающей аппаратуры, открывает более широкие возможности для недопонимания, чем письменная. В частности, если оратор прервал произносимую фразу, то у слушателя «существует в среднем около десяти различных слов, которыми можно было бы продолжить предложение с данного места, так чтобы предложение было грамматически правильным и имело смысл [205,73]». И второй вопрос: «Возможно ли доверять хоть единому слову Евсевия Памфила, епископа Кесарийского?» Решительно отвечаю – нет. Опору своей решительности нахожу в бескомпромиссных словах правдолюбца К.П.Пруткова: «Единожды солгавши, кто тебе поверит [185,99]?»
«В 303 г…. языческий император Диоклетиан (большой специалист не только по руководству страной, но и по выращиванию капусты, чем вызывает уважение) приказал уничтожить как можно больше христианских сочинений. Доверив своим редакторам исправить это зло, император Константин Великий предоставил стражам догмы удобный случай пересмотреть и исправить тексты согласно их убеждениям или требованиям текущего момента, чем они благополучно воспользовались [55,261]», подготовив материал для Евсевия и поощрив его к дальнейшей правке истории христианства. В том и заключается одна из главных причин трудности толкования Нового Завета, что время от времени добрые христиане «совершенствовали» его. Проанализировав рукописную традицию, С. Лёзов констатирует, «что текст Евангелий целенаправленно изменялся и после их канонизации… С точки зрения истории текста Новый Завет на протяжении почти четырнадцати веков оставался живым и развивающимся литературным корпусом, содержание которого постоянно обновлялось за счет „впитывания“ новых теологических идей [14,388]». Недаром Цельс упрекал христиан в том, что они по многу раз переделывали свои «священные» книги [56,266]. Внося изменения в новозаветные тексты, различные авторы, разумеется, не согласовывали эти изменения между собой, поэтому «различий между дошедшими до нас рукописями больше, чем слов в Новом Завете… Трудновато понять смысл слов Божиих, если мы даже не знаем, какие это слова [21,26]!» Из длинного ряда умышленных искажений Св. Писания приведу лишь некоторые, показавшиеся мне наиболее впечатляющими.
1) Сказано: «А на трёх друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, и тем самым обвиняли Бога [Иов. 32,3]». ИБ в сноске отмечает, что написание «Иова», вместо «Бога», дело рук переписчика. Профессор М. И. Рижский также говорит об этой подмене [43,170], которая не обошла стороной и ПБ. Если переписчик считал, что обвинять Бога нельзя, потому что Он не делает зла, то Ветхий Завет это безусловно опровергает: «Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло [Суд. 2,15] … Так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его [4Цар. 22,16] … И утешали его за всё зло, которое Господь навёл на него [Иов. 42,11] … Так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло [Иер. 18,11]». Скорее, мне кажется, переписчик опасался, что допущение возможности обвинять Бога способно подвигнуть кого-нибудь когда-нибудь в чём-нибудь обвинить и церковные власти, а это, по разумению самозваного редактора, непозволительно – вспомним, чем обернулись нападки Лютера на Ватикан.
2) Св. Иероним «считал, что было бы опасно переводить это Евангелие от Матфея в том виде, как оно есть, потому что изложенные в нем факты таковы, что те, кто обладали ими как святыней, желали их скрывать от мира профанов. Он считает далее, что при таком переводе это Евангелие вместо назидания принесло бы лишь разрушения. Как же поступил отец Церкви Иероним? – Он выпустил писания, которые по его и церковному мнению того времени могли действовать разрушающе, и заменил их другими. Но из писаний Иеронима мы узнаём ещё больше, и это как раз то, что даёт самый сомнительный аспект всему происшествию, а именно, что Иероним знал, что Евангелие от Матфея может понять только тот, кто посвящён в определённые тайны, и он признаётся также, что сам к таковым не принадлежит; т.е. он констатирует свое непонимание Евангелия от Матфея! И тем не менее он его всё же перевёл. Таким образом, у нас до сих пор Евангелие от Матфея в обработке человека, который его не понял, но который настолько привык к этому изложению, что позже он сам же объявлял ересью всё то, что утверждалось о Евангелии от Матфея, если утверждаемое не находилось в его переводе. Таково истинное положение вещей [59,129]», – делится впечатлениями основатель антропософии Рудольф Штайнер. Считал ли Св. Иероним новозаветные книги богодухновенными? Вопрос риторический, поскольку «с текстами, признаваемыми дарованными при откровении, не обращаются особенно смело. Не производят анатомических опытов над телами святых [199,366]».
3) В Евангелии от Матфея приводится возглас Иисуса: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил [Мф. 27,46]?» Эти же слова мы находим и в псалме [Пс. 21,2]. Разница лишь в том, что «оставил» в Евангелии является переводом еврейского слова «савахфани» (sabachthani), а в псалме – слова «асавфани» (asabxthani). Во втором случае перевод правильный, а в первом – ложный. Медвежью услугу оказал христианам редактор Св. Писания, заставив их (в том числе и проф. Лопухина) полагать, будто бы Сын Божий издал «предсмертный вопль, указывающий, что всякая надежда на спасение и возвращение к жизни теперь исчезла [5,8,460]», чем выразил недоверие к Отцу. Если Бог позволяет Себе бросить на призвол судьбы Сына, то как нам, грешным, надеяться на Него? Правильный перевод [Мф. 27,46] таков: «Боже Мой, Боже Мой! как Ты Меня прославил [31,191]!» По свидетельству Е. Блаватской эти сакраментальные слова принадлежали обрядам языческих храмов. «Они произносились после страшных испытаний посвящения и были ещё свежи в памяти некоторых из «отцов», когда Евангелие от Матфея редактировалось на греческом языке [31,192]». Этот возглас мог быть и знаком благодарности Христа за то, что Бог не остался безучастен, когда «Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче! Пришел час: прославь Сына Твоего [Ин. 17,1]».
4) Стихи [Мк. 16,9—20] отсутствуют в древнейших копиях Евангелия от Марка [23,58]. Но его составители, видимо, сочли, что без рассказа о воскресении и вознесении Иисуса оно будет неполным, и добавили эти строки, среди которых ест и такие: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет [Мк. 16,16]». Е. Блаватская пишет о них: «Церковь не сильно обеспокоена тем, что даже самые тщательные поиски этих слов в древнейших текстах в течение последних веков оказались бесплодными; или, что последний пересмотр текста Библии привел всех ищущих и любящих истину учёных, занятых этой задачей, к признанию того факта, что не следует искать такой не похожей на Христа фразы нигде, кроме некоторых позднейших поддельных текстов. Добрые христианские народы усвоили эти слова утешения, и они стали самой сердцевиной и сущностью их милосердных душ. Отнять у этих избранных сосудов Бога Израиля надежду на вечное проклятие для всех, кроме них самих, – это равносильно тому, чтобы отнять у них саму жизнь. [42,728]». Едва ли последние слова Е. Блаватской следует расценивать как примитивное злобствование, поскольку в их поддержку можно привести сообщение Св. Фомы Аквинского: «Чтобы святые могли полнее насладиться собственным блаженством и благодатью Божьей, им позволено наблюдать за мучениями грешников в преисподней [48,448]». Тянутся за святыми садистами и простые государи: «один католический император (Константин Порфирородный) с явным удовольствием описывал, как с критских сарацинов сдирали кожу или как их погружали в котлы с кипящим маслом [30,6,163]».
Вообще, христиане находили особую отраду в том, чтобы жестоко карать тех, кто «не уверовал во имя Единородного Сына Божия [Ин. 3,18]». Например, супруга императора Диоклетиана императрица Приска поначалу исповедовала христианство, но, познакомившись с ним поближе, «отреклась навеки от христианской веры [17,1,79]», за что и поплатилась после кончины императора. «Окровавленные тела дочери Диоклетиана Валерии и её матери они (добрые христиане) волокли по улицам Фессалонии и бросили в море [17,1,87]». Не лучше были последние часы и для выдающегося философа, математика, астронома Гипатии, учившей, что «все формальные догматические религии ложны и никогда не могут быть приняты уважающим себя человеком как абсолютные [136,340]». Гипатию «затащили в церковь, содрали одежду и изрезали тело на куски острыми ножами для разделки устриц. Затем сожгли её останки. Ну а что ещё прикажете делать с женщиной, которая (по словам епископа Никейского Иоанна) посвящала всё своё время магии, астролябиям и музыкальным инструментам и вводила в заблуждение многих людей посредством сатанинских ухищрений [136,341]?» Известный историк Эдуард Гиббон совершенно справедливо полагает, что «умерщвление Гипатии запятнало неизгладимым позором и личность, и религию (отца Церкви Святого) Кирилла Александрийского [30,5,240]», организовавшего это изуверское убийство. «Не надобно иного образца, /Когда в глазах пример отца [232,31]». Но не следует думать, что удачно устроившиеся самодовольные христиане чураются мазохизма. Сын православного священника, известный французский философ Сиоран рассказывает об их наклонностях: «Праведники» из клоунады, фанфароны искушения, жуиры, щекочущие себе нервы собственными грехами, адскими муками и показным смирением. Если они и терзают свою совесть, то только в поисках свежих ощущений [93,179] … Отнюдь не стремясь к истине, христианин млеет от собственных «внутренних конфликтов», от своих пороков и добродетелей, от их наркотической власти. Эпикуреец зловещего, он ликует у Креста, сопрягая удовольствие с ощущениями, которым оно вовсе не присуще: разве не он изобрёл оргазм угрызений совести [93,180]?»
5) «Иисус, умилосердившись над ним (прокажённым), простер руку… [Мк. 1,41]». Вариант этого стиха, в котором Иисус рассердился, является более трудным, следовательно, с большей вероятностью, – текстом оригинала [21,188]. В ИБ, например, используется слово «разгневавшись». По гигиеническим соображениям прокажённым было запрещено входить в стан Израильский [Лев. 13,46]; нарушение этого правила, видимо, и рассердило Иисуса, вокруг которого собралось множество слушателей. Так что «умилосердиваться» над человеком, подвергающим окружающих риску заражения опасной болезнью, у Христа не было оснований.
6) «Глас был с неба: „Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя“. Так по древнейшему доканоническому чтению, вместо канонического: „Ты – Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение [Лк. 3,22] “. Чтение это неопровержимо засвидетельствовано всеми Отцами до IV века, когда оно было заменено нашим каноническим, потому что то, древнее, казалось уже догматически опасным, „соблазнительным“, по слишком уж явному противоречию с догматом бессеменного зачатия [60,140]», – рассказывает Д. Мережковский. В поддержку высказывания известного русского писателя можно привести слова пророчествующего псалмопевца: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя [Пс. 2,7]». Огорчает, что проф. Лопухин не счёл этот стих достойным специального комментария.
7) «Он (Иоанн) якобы говорит, что есть трое, которые свидетельствуют в небесах: Отец, Слово и Святой Дух; и эти трое составляют одно; и есть трое свидетельствующие на земле: дух, вода и кровь, и эти трое составляют одно [1Ин. 5,7—8]. Доказано, что этот отрывок был прибавлен к посланию Иоанна около VI века [17,1,206]», – утверждает почётный член Петербургской Академии наук Вольтер. Но можно ли целиком доверять этому вольнодумцу? Обратимся к проф. Лопухину, который пишет: «Весьма важный в вероучительном, догматическом отношении стих 7-й не читается ни в одном из древних греческих кодексов Нового Завета… Только в некоторых, и то не древних, списках латинского перевода Вульгаты спорный стих читается [5,10,337]». Но поскольку в принятых Церковью текстах слова стиха 7-го считаются подлинными апостольскими словами, то «при этом церковном воззрении мы и должны остаться [5,10,338]», – ничтоже сумняшеся, поучает нас А.П.Лопухин со товарищи. Однако! То есть, если факты противоречат церковным воззрениям – тем хуже для фактов; надо думать, не от Бога они (факты), ох, не от Бога.

