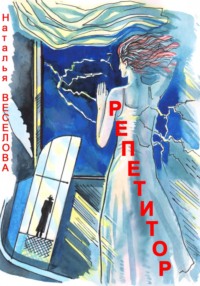Полная версия
На линии любви
Ларисина исключительная неудачливость не пожелала ограничиться официальными рамками детства и поставить жирную точку в виде скверной погоды в выпускную ночь. Подарки судьбы продолжались с такой же неотвратимостью, как движение учительской авторучки вниз вдоль столбика фамилий в журнале в день, когда ты заведомо не выучил нудного урока. Цветные стразы на лифе вечернего платья оказались халтурно пришитыми все на одну худую, тихонько лопнувшую нитку, зато посыпались в ресторане на пол – звонко и весело, как дополнительный мини-залп праздничного салюта – и пьяные девчонки находили забавным с визгом подбрасывать их пригоршнями вверх, причем Ларисе пришлось очень натурально хохотать вместе с ними, чтоб не стать в очередной раз объектом всеобщей жалости… Ей давно, еще с набережной, было не только обратимо, снаружи, но и глубоко внутренне холодно, и согреться никак не удавалось, так как водки, наливаемой уже открыто, она по-прежнему не пила, сухое вино, наивно предусмотренное родителями для детского веселия, оказалось противно-кислым, а сок, издевательски доставлявшийся из холодильника, естественно, подавали ледяным. Платье без каменьев осталось равномерно серым, отсутствие стразов обнажило недобросовестный пошив, пришлось прикрыться влажной курткой, на которой невесть откуда оказалось огромное жирное пятно, и, в довершение программы, Лариса осталась почти совершенно голодной, потому что от котлет по-киевски отчетливо тошнило, в черно-глянцевых, как собачьи носы, маслинах обнаружились крупные косточки, а редкие бутерброды с семгой быстро расхватали более расторопные товарищи. Она неохотно надкусила слишком огромное и пунцовое, чтобы быть вкусным, яблоко, вяло пожевала несколько салатных листьев да ухватила пару тигровых креветок из-под носа зазевавшейся кузины. По спине с самого начала словно бегали противные резвые сороконожки, в мокрых и сохнуть не желавших туфлях давно онемели плотно прижатые друг к другу пальцы, любая пища имела вкус либо ваты, либо резины – на выбор, в голове неразборчиво стучала странная морзянка, тело клонило в тяжелый сон… Потом говорили – да и фотографии бесстрастно подтверждали то же самое – что она, несмотря на потерю разноцветных стекляшек, выглядела очень милой, даже одетая в странную для такого жаркого помещения куртку, а уж какой веселой! – все время заливалась-хохотала в тридцать два зуба!
Кстати, зубов в тот холодный день еще было всего двадцать восемь, четыре остальных, знаменовавших, должно быть, неожиданно пришедшую мудрость, бурно полезли друг за другом почти год спустя, когда Лариса уже приближалась среди финских сосен к окончательному выздоровлению и в полном неведении готовилась совершить изумительное открытие.
Но тогда, бурной от непогоды и веселья ночью, до этого так еще было далеко! А наутро после самого неудачного Ларисиного праздника жизнь ее привычно пошла наперекосяк. Организм не справился с ночными потрясениями, и уже к полудню незадачливая выпускница тряслась в колючем ознобе под грудой одеял, колотилась в громких и гулких приступах кашля, в промежутках умоляя сестру подняться к уже неделю как отсутствующим соседям и попросить их отложить свою варварскую работу с электродрелью на другой день, когда у нее не так чудовищно будут болеть уши… Участковый врач прописал жаропонижающее, посоветовал дышать паром над горячей картошкой и отбыл с сознанием выполненного долга, пообещав, что через неделю девочка опять начнет бегать.
Этого не случилось и через полгода. Через полгода, когда Анжела ответственно готовилась к своей первой в жизни сессии в ИНЖЭКОНе, Лариса только начала осваивать по-новой медленные самостоятельные передвижения по квартире до кухни и обратно, каждый раз пугаясь в коридоре своего страдальческого, будто стеаринового лица, бесстрастно отражаемого длинным гардеробным зеркалом. «Легкая простудка», диагностированная в июне, переродилось в двустороннее крупозное воспаление легких, на фоне которого как-то всерьез не смотрелся и лечился лишь по ходу дела двусторонний же гнойный отит. На зубы мудрости Лариса теперь получила полное право, потому что как не набраться ее по самое не хочу, когда на полгода погружаешься словно в колючий кошмар, о котором нет даже толковых воспоминаний. Кто же станет смаковать в памяти бесконечные пытки в операционных, где под пронзительным белым светом тебя терзают, распластанную и пригвожденную, серьезные зеленые люди без лиц, или переживать заново мутные ночи без дна и просвета в тесных палатах с высокими серыми потолками, или… Нет, одно воспоминание было терпимым. Это когда в недели коротких передышек между больницами близко перед глазами появлялось доброе старческое лицо в коричневатых пятнышках и с очень белыми зубами в терпеливой улыбке меж узких лиловых губ. Баба Зоя смиренно вливала в больную традиционный теплый говяжий бульон, давила вилкой в тарелке вареную картошку со сливочным маслом, маленькими кусочками подносила ей ко рту паровые тресковые котлеты… В те недели казалось, что болезнь отступает, побежденная, и больше не будет мучительных проколов и отсосов, побледнеют черные кровоподтеки на сгибах локтей, а сон превратится из мрачных темных провалов в радостные цветные острова… Но температура вновь и вновь взлетала к верхним границам, в груди начиналось густое влажное клокотанье, при каждом вдохе приходила мысль о толченом стекле – и вот уж опять вокруг только чужие лица, и суровая девушка в бирюзовой форме водружает у твоей новой кровати с казенным бельем нескладную металлическую капельницу…
Только к концу декабря до того беспомощно разводившая руками медицина, наконец, осторожно заявила о предполагаемом благополучном исходе этой непонятной затяжной болезни и выпустила семнадцатилетнюю девчонку, потерявшую треть живого веса, но горького опыта набравшуюся вперед лет на пять, из стен больницы окончательно – на волю и усиленное питание.
Радости Анжелы не было предела. Ей, всегда на месяц младшей, что изменить было, как ей казалось, невозможно никакими силами, теперь предстояло обогнать сестру возрастом на целый год! Открыто проявляя только самое нежное сочувствие больной и лично приготовляя для нее целебные морсы из африканских фруктов, она между делом обещала предоставить осенью будущей первокурснице и свои аккуратные, как примерные дети из хорошей семьи, конспекты, поделиться с ней за год наработанным опытом объегоривания бдительных «преподов», раскрыть маленькие, но необходимые тайны безболезненного вливания в дружное студенческое сообщество… Ведь она уже будет большая – второкурсница! Но Лариса слушала с закрытыми глазами, преступно не проявляя никакой восторженной благодарности.
Анжела знала, торжествуя, что сыплет сестре соль на и без того развороченную рану, но не знала, до какой степени мучает ее – знай она, и радость была бы уж и вовсе неприличной. Все дело в том, что проторенная дорога в ИНЖЭКОН, где уже полтора десятка лет успешно деканствовал дядя Славик, совсем не была любезна страдавшему сердцу Ларисы. Настоящая мечта ее не имела никаких шансов осуществиться, потому что в семье должной поддержки не находила, найти не могла, и, только раз робко озвученная, была признана несколько шокирующей и дурно припахивающей. Лариса хотела стать ветеринарным врачом. Она не любила животных – она была жадно влюблена в них, как иная девочка в самого недоступного парня в классе, и любовь ее подогревалась тем, что в семье даже на сам вопрос о том, чтобы завести дома пушистого (или голого, но теплого) друга, было наложено безоговорочное и непреодолимое табу. От пушистого – шерсть, от голого – запах, а проблемы – от того и от другого. Эти Аллины высказывания в семье не оспаривались, а перспектива «работать в зверинце» для сироты-племянницы, которой перед памятью ее безвременно сгинувшей матери они обязаны дать приличное образование, виделась столь же неприемлемой, как если бы она вознамерилась нигде не учиться вовсе.
Лариса провожала на улице трагическим взглядом любое, даже вовсе не привлекательное четвероногое, с детства охотно пачкала руки о бездомных, почему-то никогда даже не рычавших на нее собак, лечила в опасных для жизни подвалах шелудивых кошек от придуманных болезней, неукоснительно и небрезгливо собирала со стола все объедки, раскладывая их по дороге в школу в местах кучкования бомжующих псиных стай, неутомимо мастерила и строго блюла зимой птичьи кормушки из молочных коробок… Местная колония ворон, регулярно получавших от девочки корки черствого хлеба, приняла коллегиальное решение охранять кормилицу от опасностей, и однажды черно-серые городские интеллектуалы действительно спасли ее от приставаний агрессивного сумасшедшего, который проследил за хорошенькой девочкой от метро, когда она возвращалась из тайно, как масонская ложа, посещаемого юннатского кружка. Они вдруг грохочущей черной тучей бросились на голову толстому неопрятному дядьке, под равнодушными взглядами быстрых прохожих целенаправленно теснившему растерянную школьницу в сторону чужого темного подъезда, и он едва унес от них свои тонкие кривые ножки, потешно закрывая жирную голову старым коленкоровым портфелем… На карманные деньги Лариса неизменно покупала продвинутые зоологические журналы, оставляя на заколки и косметику только самый смехотворный минимум, в гостях у какой-нибудь счастливой обладательницы рыжей морской свинки страстно целовала оторванное от важных дел животное в колючую перепуганную морду, домашних котов одноклассников ценила гораздо выше их неинтересных хозяев, а пуделей-аристократов почитала настолько, что, обращаясь к ним, все время незаметно съезжала на «вы».
Но вот миновало некоторое родительское попустительство ребячьим шалостям, и теперь вполне сознательной обладательнице аттестата зрелости предстояло «не носиться со смешными детскими фантазиями, а сделать ответственный взрослый выбор на всю жизнь, обеспечив себе достойное и уважаемое будущее». Этот неоспоримый семейный постулат засел в Ларисе накрепко, так что даже в спартанских условиях больничных палат, где, внезапно получив возможность заняться непривычным делом созерцания и размышления, иные люди ухитряются перебелить начисто разрозненные листки черновых набросков грядущего, Лариса все равно с неизменной твердостью отвечала на вопросы старших болящих женщин, что специальность себе давно и уверенно выбрала. Она станет экономистом, когда – если – выздоровеет. Есть же решения, которые не принято легкомысленно пересматривать…
В апреле стало невмоготу. Температура упала в последний раз, и заветный серебристый столбик старомодного, но надежного градусника больше никогда не переваливал через красный рубеж тревоги. Сухих шершавых хрипов никто из врачей не слышал в Ларисиных исстрадавшихся легких, грудь не закладывало, словно ватным одеялом, в ушах не ломило. Позади остались страшные ночные просыпания, когда непонятной влагой заливало дыхательное горло, и девчонка в панике вскидывалась с ощущением наброшенной на горло удавки. В смертном ужасе она бросалась в постели на колени и силилась вдохнуть сквозь пузырящийся хрип, ударяясь лбом в жесткий угол капитальной стены – и сразу слышала рядом тихий властный голос: «Не вдыхай – выдыхай. Со всей силы. Вот так. А теперь – медленный вдох. Не торопись. Давай вместе… Во-от… Молодец… Дыши, дыши… Умница… Все хорошо». Лариса раньше и понятия не имела, что у бабы Зои, никогда не произносившей на ее памяти никаких слов, кроме самых насущных, да и то всегда с явно различимой извинительной интонацией, мог вдруг появляться такой твердый и повелительный тон, разом прогонявший дикий мохнатый страх, вселяя уверенность в благополучном исходе не то что этого мелкого случайного приступа, но и чего-то другого, неназываемого, но гораздо более важного…
Болезнь отступала уже почти не огрызаясь, но навалилась неподъемная тоска. В Ларисе все никак не появлялось той жадности ко всем проявлениям жизни, свойственной выздоравливающим, не приходила и усталая благостность, когда победивший злую болезнь человек исподволь копит силы для здоровой полнокровной жизни, не роились ни дерзкие планы, ни даже скромные, легко исполнимые желания. Наоборот, при самой невинной попытке заглянуть в ближайшее будущее, ее охватывала странная душевная тошнота. Перед мысленным взором представала вереница одинаково бессмысленных дней, заполненных неинтересной и не приносящей радости учебой среди вполне предсказуемых сверстников, в свободное время невесело тусующихся в дешевых кафе, где на столе всегда больше демонстративно открытых планшетов, чем тарелок с едой – и это называется дружеским общением, которого нельзя избегать, чтоб не прослыть белой вороной… И нет никакого не досягаемого другим помещения, чтоб уклониться от всего этого тошнотворного копошенья, кроме гроба, который уж было избавительно открылся – да на тебе, на дворе двадцать первый век, поднатужились да вылечили! Едва-едва достигший смешного гражданского совершеннолетия ребенок мрачно рассуждал о том, что не дотянувшаяся в этот раз до нее безносая гостья, собственно, никого бы не огорчила, преуспей она в своем замысле утащить за собой Ларису. Все бы сдержанно поплакали на кремации, принимая дружеские соболезнования, очень ясно представляла она, а тетя и кузина непременно приобрели бы себе по такому случаю очаровательные черные шелковые платьица, надев их с обязательными нитками одна – серого, другая – розового жемчуга…
И на этом месте потока размышлений Лариса всегда, содрогнувшись, припоминала невероятную женщину, сотрудницу ритуальной службы крематория, чья должностная инструкция вменяла ей в обязанность произносить траурную речь над еще открытым гробом, перед тем, как он торжественно уплывал в пылающую преисподнюю; сей хронически нетрезвый персонаж, одетый по форме в несвежий, дурно пошитый и криво застегнутый черный костюм с худым дешевым галстуком, имел такое порочное и прожженное лицо, настолько испитый и гундосый голос, что был не просто лишним при прощании даже с безразличным покойником, а метафизически пугал собой, как земным, осязаемым образом адского обитателя. Представить эту без всякого переносного смысла кикимору дома, в окружении детей и родных… Самое интересное, что можно было. И виделся паутиной повитый семейный очаг Бабы-Яги, с огромным чугунком посередине хромого стола, где дымилась сочная аппетитная человечина. Вот именно эта дама, уже дважды на похоронах дальних родственников увиденная при исполнении служебных обязанностей, и проводила бы Ларису в последний путь, а могила… Да какая там могила – просто крошечная мраморная дощечка с быстро стершейся надписью, скрывающая раз навсегда замурованную урну где-нибудь в самом верхнем, недоступном никаким посещениям и сожалениям ряду городского колумбария, где нашли свои вечные квартиры те, кого никто никогда в этом мире не любил. Может, так и лучше было бы, и правильней?
На семейном совете, состоявшемся без привлечения заинтересованных сторон, Ларисе был поставлен заочный диагноз «депрессия», и решено было, в ее, разумеется, интересах, выдворить выздоравливающую вместе с добровольной няней бабой Зоей открывать дачный сезон на месяц раньше положенного времени, дабы они находились под взаимно полезным присмотром, не огорчая своим наводящим уныние видом никого из бодро настроенных домочадцев. В первых числах мая приехали на дачу всей семьей во вместительном, похожим на добротное корыто «Рено», и Алла с Анжелой азартно вытряхивали во дворе слежавшиеся в холода одеяла, в то время как баба Зоя мрачно резала на веранде водянистые весенние помидоры, а Славик единолично шаманил над мангалом с наветренной стороны. Вечером баба Зоя на шашлык не вышла, еле слышно уронив: «Страстнáя», – и, как всегда, была проявлена по отношению к ней похвальная деликатность, выразившаяся в примирительном шепоте Аллы: «Что-то религиозное, девочки, ее дело, не надо настаивать…» – и Анжела понимающе кивнула, не поддержанная на этот раз ко всему равнодушной сестрой.
Только вечером следующего дня, в субботу, заботливо протопив промерзший за зиму бревенчатый дом, стоявший в окружении оранжевых сосен среди северных некрутых дюн в полукилометре от не вполне проснувшегося залива, родственники оставили на даче двух женщин, за которых беспокоиться им было не с руки: одна все равно уже доживала свой незаметный век, а другая только начинала его – и он обещал стать таким же не видным никому и никем в расчет не принимаемым. Но они оказались правы: сразу после их отъезда Лариса почувствовала себя гораздо лучше, чем весь последний месяц в городе, – сказался, верно, с детства всегда бодривший ее здоровый запах залива вперемешку с настоянным на солнечном свете весенним ароматом обновляющейся сосновой хвои. Девочке впервые захотелось медленно гулять и, радуясь по-летнему жаркому майскому дню и почуяв нешуточную свободу, Лариса предприняла рискованно дальнюю прогулку на знакомый берег. Там она долго просидела на теплом высоком валуне, жалея о том, что не захватила с собой подаренной на совершеннолетие фотокамеры, потому что совсем близко от берега, рукой подать, меж фиолетовых льдин на холодной предзакатной воде спокойно качались перелетные лебеди, целая стая из двадцати двух пунктуально подсчитанных птиц. Грациозно завивая сложными кренделями розоватые шеи, они заботливо чистили твердыми клювами потускневшие в полете перья, а иногда вдруг мощно поднимались, словно вставали, во всю ширь расправляя усталые крылья над гладкой водой, пылавшей в лучах темно-оранжевого, как перезрелая хурма, низкого солнца…
Незаметно подкрались вовсе не веселые мысли. После болезни к Ларисе, как и к любому счастливо выздоравливающему, вернулся, наконец, здоровый юношеский аппетит, не зависевший ни от каких интеллигентских депрессий и пубертатных перепадов настроения. Вместе с аппетитом коварно возвращался и утраченный во время болезни естественный вес, вот уже лет пять служивший источником неизбывных мучений. Ибо Лариса была уверена, что неприлично, как молочная корова с упаковки сливочного масла, толста – ведь уже к шестнадцати годам ее размер достиг неимоверного сорокового! Это при Анжелкином-то тридцать шестом! Единственный стоящий парень, бурно понравившийся ей в десятом, не довел свои ухаживания даже до поцелуя, и причиной тому – так и сказал, не постеснялся! – стала именно ее невозможная полнота. «Неужели трудно похудеть! – злобно шептал он ей во время медленного танца на чьем-то скучном дне рождения. – Сидят же другие девушки на диетах! Почему одна ты такая безвольная, что даже ради любви не способна мобилизоваться! Вчера, когда в кино были, слышал, как два мужика на тебя показывали и смеялись. «Такой крутой парень (это про меня), – говорят, – а бабу себе нормальную найти не мог: жирная, как рождественская индейка…». Думаешь, мне приятно такое слушать?». И Лариса вполне верила ему: конечно же, именно так все и было вчера в кино, и она чувствовала себя отчаянно за это виноватой, и давала под музыку страшные клятвы, что с завтрашнего утра… Но не позже, чем к полудню, одолевал такой невыносимый голод, что, ненавидя и проклиная себя, она неслась на перемене в буфет – и воровато съеденная там горячая сосиска казалась слаще любого самого страстного поцелуя… Болезнь обстругала Ларису размера на два, и, неделю назад вынув тайком из Анжелкиного шкафа ее самую просторную кофточку, она ее даже почти застегнула! Но неделя прошла в отчаянном гастрономическом разврате – и вот она уже с омерзением осязала сегодня утром под ночной рубашкой свои жирные, как у матушки Гусыни из английской песенки, гладкие и упругие бока… Нет, решено: с завтрашнего дня – голод. Окончательный и бесповоротный!
Когда Лариса, вовсе не усталая, как боялась в начале прогулки, неторопливо вернулась вечером домой, она вдруг столкнулась на веранде с бабой Зоей, вполне одетой и уверенно опиравшейся на свою дагестанскую трость с чудным резным набалдашником. «Сейчас уйдет и потеряется», – быстро подумала девочка, прежде чем бабуля произнесла хоть слово.
– Я еще не могу сегодня просить твоей помощи, – совершенно разумно, без тени «Альцгеймера», сказала старуха. – Но и не пойти в церковь тоже не могу, потому что сегодня ночью – пасхальная служба. Я прекрасно доберусь туда и обратно одна, на маршрутке, а храм стоит прямо у шоссе… – и, поскольку Лариса растерянно молчала, соображая, насколько ответственной окажется она перед тетей Аллой за возможное бабкино навечное исчезновение, то баба Зоя мягко добавила: – Я не заблужусь, не бойся… – и совсем уж едва различимо: – Я и тогда не заблудилась…
В светлом деревянном доме, насквозь пронизанном закатным солнцем и запахом просыпающейся земли, спать в тот вечер Ларисе не хотелось. Невозможно было и запустить очередной фильм из тех, что сотнями были просмотрены и забыты за минувший год и словно слиплись в ее памяти в один огромный мерзко-пестрый ком, не оставивший хоть сколько-нибудь значительного следа. Тогда девочка рассеянно поднялась по узкой боковой лестнице на жаркий под раскаленной крышей чердак – неинтересное, еще во времена детских игр в привидения подробно изученное место, где, тем не менее, в дряхлых картонных коробках кучей свалены были за ненадобностью старые книги – наследство тех дремучих времен, когда люди не знали ни видео, ни Интернета и вынужденно убивали лишнее время за чтением. Раз это, наверное, делала ее мама и, уж точно, родная бабушка, то почему бы и ей, Ларисе, не попробовать почитать какую-нибудь забавную настоящую, не электронную книгу? Ведь находили же люди это интересным раньше! И сейчас некоторые чудики продолжают покупать книги в магазинах, а не скачивать… Ну, хорошо, прочитаешь, а потом вот будут валяться, как эти… То ли дело электронный текст – удалила и все, загружай себе новый… Лариса вытащила несколько книжек наугад, сморщилась: стихи-и! Это – извините… Она порылась еще: «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл. Ну да, фильм еще такой был, что-то про войну в Америке – и дамы в кринолинах… или турнюрах… Старье… А вот еще пожалуйста, русская фамилия, смешная, будто у инвалида – этого она знает: он написал роман про педофила, как он украл девчонку двенадцати лет; они с Анжелкой набросились было в восьмом классе, думали, там сцены какие-нибудь откровенные, а оказалось – скучища… Но это другая, называется «Дар»… Ну и пошла подальше… Лариса уже отложила ее на угол соседней коробки, когда вдруг заметила, что из середины книги торчит цветной глянцевый уголок.
Фотография. Девочка без особого интереса вытянула ее и поднесла поближе к крошечному чердачному окошку, подставляя под пыльный диагональный луч из самых последних. Лицу сразу стало горячо, потому что в первый миг показалось, что на фотографии – она сама, в джинсовой юбке, каких имела полдюжины, и брезентовой штормовке, которой у нее не было никогда. В следующую секунду Лариса поняла: это ее без вести пропавшая мама по имени Люба, о которой в семье говорили редко и неохотно, что заставляло подозревать какую-то подлежащую раскрытию в дальнем будущем тайну; фотографий от мамы осталось до обидного мало: все, в основном, парадные школьные, в синей форме, а на черно-белых любительских карточках всегда неясно выходило лицо. То, что она похожа на маму не просто как дочь, а почти до полной тождественности, Лариса знала давно и потому стригла под каре гладкие русые волосы, чтобы избежать и без того регулярных сторонних напоминаний о своем горьком сиротстве. Мама же была вынуждена волосы отращивать и забирать их в высокий жидкий узелок, ведь она танцевала на сцене, а короткие волосы танцовщицы тогда не носили… Все это Лариса снова мгновенно вспомнила, с волнением разглядывая фотокарточку резких, кричащих тонов, где мама стояла на фоне абсолютно ровного, глазом не за что зацепиться, плоского пейзажа, в небольшой группе незнакомых людей, пожив голову на плечо улыбающемуся худенькому парнишке в ушастых кроссовках и такой же точно, как у мамы, выцветшей штормовке. «Дер. Койдино Архангельской обл., – гласила еле видимая карандашная надпись с обратной стороны. – 14 июля 1994 г».
Девочка еще не начала обдумывать увиденное и прочитанное, когда в голове ее, независимо от осознаваемых мыслительных процессов вдруг начался непонятный самостоятельный отсчет – и кто-то сосчитал ровно до девяти. Месяцев. Получилось – 14 апреля 1995 года – именно тот день, когда она восемнадцать лет и двадцать дней назад зачем-то родилась на этот неприветливый свет.
Глава вторая
В эмиграции
По-дурацки, конечно, получилось. Привели домой посторонние люди. А там племянница уж и рада была заклеймить «Альцгеймером». Все произошло совершенно иначе – но кто станет слушать выжившую из ума старуху. В девяносто лет – а Зое именно девяносто исполнилось в начале февраля, чего никто, конечно, не заметил – уже положено ослабеть на голову. А кто не ослабеет – того заставят. Запрут в четырех стенах, ключи от квартиры и карточку с пенсией отберут – и гуляй себе на балконе, как кошка. Впрочем, кошки у них в доме нет. На балкон можно было бы выносить обувную коробку с черепахой, но черепахи тоже нет. Если не считать ее, Зою. В зеркале – совершенно черепашья голова. Очков только не хватает, как у Тортиллы. Смешно, да? Она была с детства безнадежно близорукой – под тридцать пять лет дело уже дошло до минус семи. А с сорока зрение вдруг понеслось в обратную сторону. С возрастом ведь у большинства наступает дальнозоркость. Вот и ее организм, устремившись в плюсовую сторону, плавно пришел к единице. К восьмидесяти пяти лет! И стала Зоя читать и вообще жить без очков в свое удовольствие…