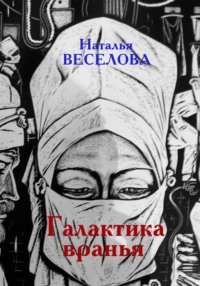Полная версия
Вариант свободы
Он выключил телефон, свет, ее мобильник: пусть действительно выспится, ребенок ведь, в сущности…У него дочь ей ровесница. На прощанье коснулся губами горячего лба – и вышел.
* * *
Мама очень любила свою маленькую дочку Агату и уделяла ей столько материнского внимания, сколько не получает большинство детей, будучи при живых родителях предоставленными самим себе – под благовидным прикрытием детсадов и продленок. Двадцатипятилетняя учительница Женя родила дочь в коротком необременительном браке, в глубине души отдавая себе отчет, что и замуж-то выходила для того, чтобы неосужденно родить ребенка, желательно, девочку, и воспитать ее для себя, по себе, маминой подружкой и вторым ее маленьким «я». К браку как таковому Женя чувствовала не особенно тщательно скрываемое отвращение, определяя свое чувство фразой: «Это надо было перетерпеть» – как детскую болезнь или регулярное женское недомогание. Незаметно она перенесла те же критерии на воспитание девочки Агаты, поначалу ангелоподобному ребенку, порхавшему по квартире в лентах и кружевах. Постепенно, по мере возрастания дочки, из лексикона Жени (мало-помалу превращавшейся в Евгению Иннокентьевну) стали исчезать слова «я» и «она», когда речь заходила об их маленькой семье. Женя неосознанно заменяла их универсальным «мы» – и настолько с этим местоимением сроднилась, что произнести: «Я люблю корзиночки, а Агата – эклеры» становилось с годами все невозможнее, и Евгения говорила: «Мы любим корзиночки», – и только они покупались к чаю, а Агатина любовь к эклерам растворялась в огромной материнской любви к дочери.
Вдохновенно преподавая русский и литературу в средней школе, Евгения Иннокентьевна, само собой разумеется, с младых ногтей приохотила юную Агату к чтению – и не какому-нибудь там бессистемному и хаотическому, а строго определенному: предполагаемое к прочтению произведение заранее преподносилось образованной матерью в определенном ключе, ненавязчиво готовилась правильная почва для восприятия. После того, как дочь прочитывала книгу, Евгения обязательно находила время подробно обсудить ее, добиваясь максимального осмысления и нежно настаивая на своем, если девочка вдруг осмысливала что-то не по-матерински. Суждения Агаты, правда, иногда шокировали мать, но она списывала их на неизбежное влияние разношерстного школьного коллектива. Очень неприятно поразило ее однажды высказывание дочери о самоотверженном подвиге Татьяны Лариной:
– Мама, она, по-моему, просто дура.
Евгения вспыхнула:
– Во-первых, мы давно договорились, что не произносим вслух – и, желательно, про себя – таких вульгарных слов… – (Это было маленькой педагогической ложью: ни о чем таком они не договаривались, а просто мама однажды ненавязчиво намекнула дочке на то, что «в нашем доме такие высказывания не приняты»; к слову сказать, кроме них двоих, в их доме никого не было). – А во вторых, все-таки объясни, пожалуйста, почему ты считаешь Татьяну… неумной?
– А зачем она из глупой гордости и себе, и Онегину жизнь испортила? – задал долгоногий подросток закономерный вопрос.
– Ну, ведь он сам от нее вначале отказался – и так жестоко! – парировала мать очевидной ей сентенцией.
– А, по-моему – так не жестоко, а очень даже порядочно! Мог ведь взять – да и… Как ты это называешь… воспользоваться… Тем более, что она ему сама написала: «Я твоя». А он честно поступил: не понравилась ему девушка – так и сказал, причем, вежливо, не обидел…
– И все-таки жестоко. Представь себе: девушка, юная, переступает через себя, признается в любви… В те времена это было – знаешь чем?! А он в ответ – назидание. Ну, разве не жестоко? – потихоньку гнула свою линию Евгения.
– Ну, не нравилась она ему! Что он, должен был на ней жениться? А потом, когда повзрослела и похорошела, – понравилась. Сначала ошибся человек, не разглядел… Что, не имеет он права на ошибку?
«Конечно, не имеет!» – так и захотелось воскликнуть Евгении, потому что она признавала только жизнь по высокому счету, не допускающему никаких сбоев. И вообще, ее больно кольнуло то, что малолетняя Агата встала на защиту мужчины – то есть изначально потенциального делателя зла молодым девушкам. Но говорить обо всем этом было бы и непедагогично, и преждевременно, поэтому Евгения спокойно, как на уроке, разъяснила:
– Его ошибка, тем не менее, имела свои последствия. Непоправимые последствия. Татьяна вышла за другого, и Онегин больше не имел никаких прав ни на какие признания. Он безвозвратно упустил свой шанс и…
– А, ерунда… – с неожиданным легкомыслием перебил ребенок. – Она его все это время любила, он тоже понял, что любит, – так отчего бы им не пожениться?
– И разбить сердце ни в чем не повинному князю, мужу Татьяны? – кинула последний грозный козырь Евгения.
– Сам был бы виноват! Нечего было на молоденькой жениться, раз старик! – страстно, как о чем-то выстраданном, прокричала дочь. – Это он ей жизнь загубил тем, что женился, эгоист! Он только себе счастья хотел, иначе понимал бы, что ее счастья не составит! И если б Татьяна ушла к Онегину, вот ни на столечко бы этого генерала не жалко!
Евгения была поражена. «Что я упустила в ее воспитании?» – ожгла быстрая мысль. Она едва сохранила спокойный тон:
– Ну, а ты… Что бы ты сделала в такой ситуации?
– О, я… – и на розовом личике девочки мелькнула вдруг мечтательно-злая полуулыбка. – Уж я бы не стала мучиться с противным старикашкой, если б тот, кого я годы любила, пришел и позвал меня! Я бы ушла с ним и узнала, что такое настоящее счастье, я бы…
– Подожди! – перебила мать, забыв уже об изначальной литературности спора и думая лишь о том, что перед ней – девочка, в которой готова сформироваться сомнительная установка. – Подожди! А если бы у него, Онегина, это оказалось мимолетным порывом? Если бы через месяц этот порыв прошел, и он снова превратился бы в скучающего циника, а Татьяна бы всю жизнь разрушила, свою и мужа?
– Зато этот месяц – один месяц! – своей жизни она была бы по-настоящему счастлива. А так – не была счастлива вообще никогда, – убежденно провозгласила дочь.
Евгения прочла целую лекцию. О долге, о совести, о чести, о жертвенности. О том, какими обязаны быть порядочные люди. О том, во что превратится мир, если каждый будет делать то, что захочет. Она говорила красиво, убедительно, напористо – и сумела пристыдить не вставшую еще, но уже глянувшую на скользкую дорожку юную душу. Наконец, сочла возможным риторически спросить:
– Ну, теперь ты со мной согласна? Убедила я тебя? – и услышала то, что ожидала:
– Согласна, мама, – а торжества не было: дело в том, что Евгения не сумела убедить лично себя.
Ребенок еще полностью находился во власти непоколебимого родительского авторитета, но как ответить самой себе на вопрос: а зачем все это – долг, честь, совесть, жертвенность, когда жизнь проходит мимо, верней, протекает серым ручейком, – и не послать ли… подальше… всю эту жертвенность вместе с честью ради одного, но ослепительного месяца, или даже только часа – но абсолютного счастья? Как просто было раньше, когда верили в Бога! Можно было бы ответить: эта жизнь здесь – ни серая, ни черная – ничего не значит. А значит только жизнь – вечная, и это ради нее не ушла Татьяна за Онегиным… Потому что Бога боялась и вечности хотела – светлой, куда бы не пришла с ним… Но такого не скажешь ведь ребенку, да и самой себе поостережешься – а вот поди ты! Без этого все самые высокие, самые чистые и прекрасные поступки теряют смысл.
Поразмышляла обо всем этом сорокалетняя Евгения Иннокентьевна – да и отложила мысли такие в сторону: живем сейчас, исходить надо из сегодняшних реалий и воспитывать детей для завтрашнего дня и самостоятельной жизни… Самостоятельной? Евгения вздрогнула. Нет, в таком обществе, где того и гляди рухнут все устои, если уж и самое святое и чистое – образ Татьяны Лариной! – можно дерзнуть опорочить… Нет уж, полной самостоятельности в таком мире неопытным душам лучше не надо… Да ничего, это ведь подростковый возраст… При правильном руководстве гладко минует период ершистости, и вернется дочка к маме, в их уютное «мы»…
– Мы ходим в Капеллу по абонементу – там так хорошо!
– Мы любим проводить лето только в средней полосе России – так здоровее!
– У нас особый круг друзей, избранный; мы никогда не приглашаем на наши праздники молодежь – она теперь такая разнузданная!
– В нашем доме терпеть не могут грязи, которую разносят всякие животные!
– Нам не нужно в квартире никаких мужских носков!
Не научившись познавать физическую радость от любви, Евгения инстинктивно представляла мужчин носителями низменных инстинктов, на все готовых ради их удовлетворения, и невольно прививала дочери взгляд на взрослого мужчину как на возможного насильника, а на юношу – как на соблазнителя, который обязательно «попользуется», а потом «бросит девушку наедине с ее горем».
Какого будущего хотела она для Агаты? О, самого идеального. Лучше бы, конечно, обойтись безо всяких мужчин – но как тогда быть с внуками? Уж очень хотелось Евгении на склоне дней поагукать над еще одной кудрявой головкой, позаплетать косички, покатать нарядную колясочку… Да и комплекс старой девы может развиться, если вообще без мужчины… Значит, придется Агаточке это перетерпеть – что поделаешь.
Иногда, перед самым засыпанием, когда Евгения, угревшись и унежившись в постели, позволяла себе помечтать, вставала перед ее внутренним взором мирная картина домашнего счастья.
Вечер. На улице суровая зима, завывает метель, а в их квартирке тепло и уютно. Чуть постаревшая, но очень благородно выглядящая, с тяжелым узлом немного поседевших волос, Евгения Иннокентьевна сидит за круглым столом, покрытым нарядной тканой скатертью, под круглым матерчатым абажуром. Напротив нее – вполне взрослая, очень милая Агата, тоже гладко причесанная, в аккуратной домашней блузочке с кружевным воротничком. Обе женщины проверяют тетради, время от времени зачитывая друг другу ученические перлы. «Мама! – задорно восклицает Агата. – Ты только послушай, что Иванов пишет: "Конь под Печориным пал и громко зарыдал на всю степь"», – и обе они, мать и дочь, от души смеются. На столе дымятся чашки с чаем, красуются вазочки с разными сортами домашнего варенья, в хрустальной конфетнице – аппетитное печенье собственноручной Агатиной выпечки… Рядом со взрослым столом – столик поменьше. За ним, склоняя очаровательную головку то на один бок, то на другой и высунув от напряжения розовый, как у котенка, язычок, рисует семилетняя девочка: «Вот это мамуля, вот это бабуля, вот это наша дача, вот это солнышко светит, а вот это, с цветочком в руке, – я стою». Откуда взялась внучка – это Евгения Иннокентьевна уже придумала: Агата недолго пробыла замужем, муж стал плохо относиться к ней и ребенку, она развелась, навсегда разочаровавшись в браке и мужчинах, и вернулась с маленькой доченькой под надежное мамино крыло. Теперь она, как и ее мать когда-то, посвятит себя воспитанию малышки Эльвиры… или Элеоноры… Нет, пусть лучше Эльвиры, Элеонора слишком длинно… Красивое имя, а то всякие там Даши, Маши, Наташи… Простецки как-то… Да, так вот… «Элечка, ты хорошо выучила стихотворение, которое вам задала учительница?» – с любовной строгостью спрашивает бабушка. «Конечно, бабулечка! – с радостной готовностью лепечет девочка и сразу же начинает нараспев: – На прививку, первый класс! /Вы слыхали – это нас! /Я уколов не боюсь!/Если надо, уколюсь…» – И Агата тоже, оторвавшись на минутку от очередного сочинения, с умилением смотрит на маленькую старательную дочку, периодически горделиво переглядываясь с собственной матерью: вот какую красавицу и умницу они вырастили совместными усилиями!
Очень долго в этом предсонном видении мелькала и огромная пушистая кошка, мирно свернувшаяся клубком на стуле, и Евгения всякий раз прилагала специальное усилие для того, чтобы в своей картинке заменить кошку подушкой: микробы все-таки, а в доме ребенок! Но каждый вечер, стоило только мечтательнице закрыть глаза и вызвать перед внутренним взором любимую сцену из будущего, как кошка упорно возвращалась на свое место, иногда даже нагло приоткрывая огромный янтарный глаз, – и Евгения мысленно махнула рукой, оставив кошку как символ уюта: не обязательно же тащить ее потом в грядущую реальность!
Но пробуждения со временем все реже и реже радовали Евгению Иннокентьевну. Первой бомбой стала обновка, купленная дочкой самостоятельно на деньги, полученные за летнюю школьную практику после девятого класса. Не спросив у матери, Агата сговорилась с девочкой, чьи родители имели доступ в «Березку», и приобрела чеки по спекулятивной цене. Вскоре она вертелась дома у зеркала в платье… мандаринового цвета! И в таких же босоножках! Хуже того, у другой подружки девчонка выпросила грубую бижутерию – бусы и браслет «под янтарь» в сочетании с аляповатыми металлическими бляшками. И это после того, как они решили, что вместе поедут в Дом тканей, выберут отрез легкого шелка или крепдешина с нежным девичьим рисунком и торжественно отправятся с ним в ателье, где и закажут для Агаты первое «настоящее» платье: так, чтобы основательно, с подробными размерами, с примерками, с ее материнским любованием своим начинающим оперяться птенчиком, смущенно застывшим среди «взрослых» зеркал…
– Что это… – пролепетала оторопевшая Евгения. – Что это за… новогодняя игрушка… – и взяла себя в руки: – Не узнаю тебя, Агата. С каких это пор в нашем доме наряжаются в костюмы… уличных девиц?
– Ничего не уличных! – вспыхнула дочь. – Просто у меня свой вкус, вот и все! Почему я все время должна одеваться так, как нравится тебе? Почему я не могу на собственные деньги купить что-то по своему вкусу?
Тут уж вспылила Евгения:
– Не выдумывай! Во-первых, какой еще «свой вкус»?! Нет никакого «своего» вкуса, а есть хороший вкус и дурной! А во-вторых, какие такие «свои» деньги?! Пока тебе пятнадцать лет, изволь советоваться со мной относительно любых поступков! Любых! Тем более что эти «свои» деньги ты только что выкинула абсолютно напрасно: ты ведь не можешь рассчитывать, что я выпущу свою дочь из дома, одетую, как огородное пугало?
Было много обоюдных горьких слов и слез с последующим бурным примирением. В сотый раз повторила Евгения дочери общеизвестные постулаты о том, что лучшее украшение девушки – это скромность и нежность; что платье или блузка должны иметь благородный цвет – жемчужно серый, кремовый, топленого молока, – а в торжественных случаях возможен салатовый, небесно-голубой, коралловый; что когда девушка из хорошей семьи хочет как-то украсить себя, то единственно позволительное для нее – это надеть на свою стройную шейку тоненькую цепочку и скромные часики на хрупкое запястье; что, наконец, в одежде, подобной купленной сегодня, Агата сразу начинает походить на Катерину – а ниже этого уж и падать некуда. Голос матери звенел от горя, что у нее растет такая никудышная дочь; в глазах, светло-голубых до прозрачности, стояли святые серебряные слезы – Агата, разумеется, не могла выдержать такого натиска, и, кроме того, ее обидно задело сравнение с проклятой Катериной. Рыдая, девочка кинулась во всепрощающие материнские объятия.
Катерина была одной из воспитательных плеток, которыми пользовалась Евгения Иннокентьевна в тех редких случаях, когда политику пряника считала необходимым переменить на кнут. Речь шла о родной сестре Агатиного отца, не пытавшегося, к счастью, увидеть брошенную им дочку и в добровольно-принудительном порядке платившего алименты небольшие, но достаточные для покупки то недорогого велосипеда, то не шикарного, но милого пальто. Старшая его сестра Катя казалась молодой Женечке воплощением того, как не надо жить. Прежде всего, она не ходила на работу, как это делают все порядочные люди на свете, а у себя дома, отоспавшись как следует и наложив на щеки изрядное количество польского крема, за которым у нее всегда было время съездить в «Ванду», посвящала два-три часа изготовлению уродливых, по мнению Жени, кукол, коих потом развозила по художественным салонам, где имелись у проныры хорошие связи. В результате того, что темные, неразвитые люди зачем-то тратили свои деньги на покупку этих пошлых поделок, Катерина выручала в месяц сумму, на порядок превосходившую ту, что получала в кассе честная трудолюбивая учительница – при полной нагрузке и с доплатой за ночную проверку тетрадей и подневольное классное руководство. Кроме того, Катерина состояла в третьем законном браке, имея возраст всего около двадцати восьми лет, что доказывало ее позорную внутреннюю и телесную зависимость от мужчин и не могло не вызывать Женечкиного презрения.
Внешний вид золовки наводил ужас и переворачивал все человеческие представления об элементарных приличиях: то цитрусовое платье, притащенное наивным ребенком из «Березки», как раз и было в ее духе, как и разные – красные, бирюзовые и даже золотые! – кушаки, туфли, яркие платки, обернутые вокруг бедер, полукилограммовые кольца в ушах и десятки браслетов, перстней, висюлек… Невероятно странно – но такая опереточная внешность не отталкивала от Катерины мужчин, а, наоборот, притягивала, как мошкару на ночник. «Это потому, что, несмотря на ее замужнее состояние, они чувствуют в ней даму легкого поведения», – решила для себя Женя.
Для полного завершения «образа врага», хотелось бы ей, конечно, видеть Катерину легкомысленной вертушкой, помешанной на безвкусных тряпках и побрякушках, неспособной и двух слов связать. Но, к сожалению, в этой области вышла обидная неувязочка: родственница блистала не только нарядами, но и умом, и отрицать это означало бы показать себя ограниченной невеждой. Катерина непринужденно изъяснялась на английском и французском, едва ли не наизусть знала классику, включая сюда и ту самую сложную часть Достоевского, которую не осилила даже Женя, и вполне здраво судила о любом доступном современном произведении, зарубежном или отечественном. Обиднее всего было то, что учитель литературы Евгения Иннокентьевна подчас пасовала в споре с ней – и тем меньше импонировала ей Катерина со своим насмешливым резвым умом, спорными, но интересными суждениями, цепким летучим взглядом иссиня-серых, завидными ресницами затененных глаз…
Обо всех этих своих смущениях Евгения, конечно, не распространялась при дочери, лишь обрисовав ей клоунские одежды и манеры тети, а самобытность ее натуры невольно представив в рассказах как непозволительную распущенность, граничащую с аморальностью. Сравнение с Катериной со временем стало высшей педагогической мерой наказания – вроде пощечины, призванной немедленно привести дочь в чувство.
– Ну, вылитая Катерина! Вот они, гены! – с почти натуральным ужасом восклицала Евгения, когда слышала в интонации растущей Агаты железные нотки самоуверенности или замечала ее слишком пристальный взгляд на алые перчатки, выставленные в витрине, – и девочка немедленно съеживалась, как от удара: в сознании ее давно прочно засела уверенность, что тетя Катя, общения с которой до сих пор так счастливо удавалось избегать, – сущее чудовище, сравнение с которым является горьким оскорблением.
Нет! Евгении удастся воспитать дочь таким образом, что она станет испытывать отвращение к подобным людям и образу жизни. Девочка вырастет скромной, трудолюбивой и почтительной, окончит педагогический институт, как и мама, благо литературные способности унаследовала неплохие, а там можно будет подумать и о том, чтобы исподволь подтолкнуть ее к браку с приличным юношей, сыном кого-нибудь из проверенных подруг. Вот, например, Юра, Валин сын, – чуть Агаточки постарше, симпатичный, положительный, поступил в Корабелку, молчун, учится хорошо, по дискотекам не носится… Ну, да это рано, это мы еще решим, а сейчас нам бы только подростковый возраст благополучно проскочить…
Некоторые рычаги безотказного управления дочерью Евгения уже нащупала – и тактично, в меру, пользовалась ими, не пережимая, но и руку держа всегда на пульсе.
Одним из таких рычагов было слово «фантазия» – под него легко списывались все девичьи взбрыки, потому что шли они, конечно, от мечтательности, свойственной юности в целом.
– Когда я вырасту и закончу институт, – философствовала Агата за вечерним чаем, изначально предназначенным ее матерью для ненавязчивой инспекции и коррекции дочернего внутреннего мира, – я поселюсь отдельно от тебя: ну, сначала сниму комнату, а потом видно будет, может быть, удастся вступить в кооператив… И заведу себе кошку… нет, кота… нет, двух, чтобы они мне мурлыкали и чтобы их гладить. А спать я буду не на тахте, как сейчас, а куплю себе такой большой широкий матрац – и положу его прямо на пол, застелю плюшевым покрывалом под леопарда! А еще у меня будет такой низенький-низенький столик для кофе, а на нем – такие крошечные чашечки с блюдечками… И вообще, я накуплю много всяких фигурок, вазочек и расставлю их по маленьким черным полочкам, которые развешу лесенками… Книги? А книги у меня будут лежать просто на полу, стопками… То есть, на ковре. Потому что у меня будет такой огромный – во всю комнату! – ковер, пушистый, так что я по дому буду ходить только босиком… И еще, я подстригу волосы до плеч и сделаю шестимесячную завивку, буду ее закручивать в крупные локоны – и так ходить, как Алфёрова в «Трех мушкетерах» только короче… Да, еще у меня будет большой трельяж – такой, знаешь, с тремя зеркалами, полированный, в нем – много-много ящичков, а в них всякие украшения, и коробочки, и… – и в целом картина вырисовывалась такая тошнотворная, что Евгении снова и снова хотелось выкрикнуть: «Ну, вылитая Катерина!» – но она сдерживалась, не желая ранить фантазирующего ребенка, в упоении мечты позабывшего, что на картине, изображающей идеальное бытие, щедрыми мазками пишет как раз тот образ, который давно является вечерней страшилкой. И Евгения бралась за проверенный рычаг:
– Какая же ты фантазерка! Надо же, какая у тебя развитая фантазия! – ибо важным было соединить все эти негативные образы с ощущением их нереальности, чтобы фантазия однажды не перешла в цель, стремление к которой перебить будет уже труднее.
Наступали новые дни, мчались месяцы, подбираясь к выпускному балу и неся с собой новые огорчения. Совершенно определенно стала, например, замечать Евгения, что даже сам внешний облик взрослеющей дочери начинает пугающе напоминать черты той, вычеркнутой семьи. Откуда-то появились вдруг на лице девочки почти Катеринины пухлые до развратности губы, заменив собой аристократически строгий рот материнской породы, округлилось и само личико, заиграв простонародным румянцем вместо сдержанной матовости, тело по мере созревания превращалось не в хрупкое девичье, а сразу в призывно женское, с вызывающими округлостями. Все это несказанно огорчало Евгению, потому что вместо невинно-молочного козленочка, каким мечтала мать видеть дочку в раннем девичестве, рядом с ней в квартире незаметно оказалась здоровая эротичная тетка, которую уже почти невозможно было обнять, чувствуя хрупкие косточки, или зарыться лицом в пахнущие солнышком волосы… Теперь эти волосы пахли ароматным дешевым шампунем и еще чем-то неуловимо гадким для целомудрия, но, вероятно, очень притягательным для похотливости…
«Как же так?! – металась Евгения наедине с собой. – Почему и воспитание, и постоянный пример всегда были исключительно положительными, прочно, вроде, прививались соответствующие убеждения, а получилось… А что, собственно, получилось?».
Ничего особо страшного пока не наблюдалось. Сходив на две-три дискотеки, дочь раз и навсегда потеряла к ним интерес (хоть и лихо отплясывала на выпускном, покоробив чувства матери), много читала на родном языке и пыталась – по-английски, без усилий неплохо училась, получив вполне достойный, но странный аттестат: без четверок, но с пятью тройками – по алгебре, геометрии, физике, химии и физкультуре – и те учителя натянули из уважения к коллеге. Остальные отличные отметки обеспечивали аттестату достойный средний балл, и жизнь продолжалась.
– Я уже выяснила все насчет приема документов в педагогический… Да и договорилась насчет тебя, собственно, что уж скрывать… Сама знаешь, сколько у меня там знакомых. Но это не должно тебя смущать: в наше время, да порядочному человеку… ты понимаешь. Но экзамены ты будешь сдавать со всеми наравне, и, если уж совсем провалишься, тогда, конечно, ничего не гарантируют, но с твоими способностями, надеюсь… – Евгения говорила обо всем этом как о решенном деле, и чуть не поперхнулась, когда Агата вдруг ее перебила:
– Извини, мама, но я решила поступать не в педагогический, а на факультет журналистики. Помнишь, мы с тобой все писали письма то в «Пионерку», то в «Комсомолку», вроде статей, – ты еще говорила, руку набить, – а их печатали. Так вот, я выяснила, что для творческого конкурса этого хватит, а экзамены…
Евгения обрела утраченный было дар речи:
– Подожди… Но мы же давно решили, что у нас будет династия учителей. А журналистику мы тоже обсуждали как вариант и пришли к выводу, что эта профессия – продажная… Не для благородных людей… И вообще, не женская. Мы отмели этот вариант, как и несколько других, потому что посчитали, что…