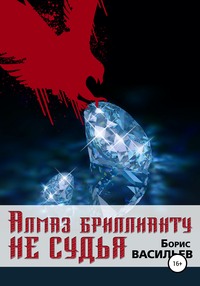Полная версия
Дразнить судьбу – себе дороже
– Двадцать семь, – и у Лены, взлетающей вверх, все внутри сжимается от ужаса. – Двадцать восемь, – и на глаза наворачиваются слезы. – Двадцать девять, – и сердце падает в пропасть. И вот она слышит: – Двадцать десять! – Но это же не «тридцать», верно? А дальше идет: – Двадцать одиннадцать, двадцать двенадцать. – И Лена заливается ликующим смехом. Неотвратимое «тридцать» еще так далеко… Но тут, как всегда некстати, вмешивается «сильно умный», хоть и дошкольник, брат-погодок:
– Тридцать, – кричит Эдик. – Уже было тридцать! Все, Ленка, все!
И мир погружается во мрак.
Сколько лет прошло, а все это так и живет в ней, как будто не прошли десятилетия. И горькая обида на докучливого родственника, настоянная на соленых слезах, ощущается так же остро, как и четверть века назад.
Зато и брату от нее доставалось. Как бы и когда бы он ни хитрил, какие бы удивительные истории ни придумывал для родителей и детсадовской воспитательницы, Лена всегда точно знала, что он натворил, глубину какой лужи измерял, на какую крышу взбирался, и могла при желании вывести Эдю на чистую воду. Но она не каждый раз этим пользовалась, как и он не всегда вредничал, и благодаря этому их взаимоотношения находились в относительном балансе. Правда, до поры до времени. Когда оба подросли и детские секреты уступили место юношеским, а затем и взрослым тайнам, Елене пришлось запереть рот на замок. Она по-прежнему независимо от своего желания оказывалась в курс всех дел и забот своего брата, стоило им только встретиться, но при этом, чтобы сохранить баланс родственных привязанностей продолжала интересоваться его новостями, которые были ей досконально известны. Только ради этого, Лена не вывернула наизнанку все прошлое и настоящее Эдуарда, когда он начал нести всякую ахинею по поводу своих взаимоотношений с человеком, знакомство с которым чуть было не закончилось трагедией для Лены и перевернуло всю ее жизнь. В своем заявлении в полицию она даже не упомянула о брате, сыгравшем далеко не последнюю роль в событиях, застрявших в глубоких закоулках ее памяти, но не известно как всплывавших на поверхность, стоило ей встретиться с Эдуардом. Тем более в доме родителей.
Хотя, при чем тут брат? Он в той ситуации, если честно, вообще был так, с боку – припека. Сама виновата. И нечего кого-то винить в собственной глупости. Повелась на избыток эстрогенов? И с чего бы? Не девочка, вроде. Гормоны взбесились, поддалась инстинкту? Тоже, вроде бы не с чего: все, как и раньше, до встречи с ним у нее было регулярно, по давно отработанному и строго соблюдаемому графику. Не феромонами же своими он ее околдовал. Что, она, бабочка что ли? Впрочем, эта неразрешимая загадка не ее одну поставила в тупик. Агате Кристи тоже всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин.
– Ты слышишь, что Эдик рассказывает? – вывел Лену из глубокой, но, как она сама осознавала, зряшной задумчивости, голос матери. – Ему предлагают возглавить отделение хирургической стоматологии. Это же замечательно!
Дора Михайловна водрузила фамильную супницу на середину стола и готовилась разливать первое по тарелкам. Эти пятничные обеды, когда раз в неделю за большим, сервированным по всем классическим канонам столом, собиралась вся семья, стали традиционными после того, как отделился и начал жить самостоятельно «родительская радость, гордость и надежда, продолжатель династии врачей» сын Эдуард. Защитив кандидатскую диссертацию и укрепив тем самым свой авторитет в стоматологическом сообществе, он обрел право на полную и безусловную свободу. Чем не преминул тут же воспользоваться, сняв квартиру неподалеку от родительского дома. Старшая сестра не смогла стерпеть такого поворота событий и с помощью родителей купила себе однушку в ближайшем пригороде. И теперь большую часть заработка отдавала родителям, рассматривая это ярмо, как своего рода погашение ипотеки. Не подозревая, однако, что деньги мать переводит на ее именной счет в банке.
– Не предлагают, а могут предложить, – быстро ответила Лена на обращенные к ней слова матери, еще не полностью вернувшись в реальность и не успев облечь истину в более подобающую случаю форму. – И что ты решил? – тут же повернулась она к брату. – От таких предложений не отказываются. Или есть на примете варианты поинтересней?
– Куда уж интересней!? – покачал головой, с улыбкой наблюдавший за этой мимолетной мизансценой Олег Александрович. – В двадцать девять лет и начальник отделения! Ого! Я в твои годы еще мосты строил.
– Ты в эти годы в горах подземный город строил. Мосты – это раньше, за Уралом, – походя заметила Дора Михайловна, ставя перед мужем тарелку с непременной по пятницам замой с картошкой для нажористости, как он любил.
– Пока не знаю, – рассудительно протянул Эдуард. – Я, ведь, практикующий хирург, а как совмещать руководство людьми с практикой? Тут или так, или эдак.
– Он свою богатую клиентуру боится потерять, – как бы, между прочим, заметила сестра. – Да никуда твои страдальцы от тебя не денутся. Организуешь частную клинику и практикуй на здоровье… в свободное от руководства время.
– Все-то ты знаешь, всех насквозь видишь, обо всем у тебя есть свое собственное мнение, – огрызнулся Эдуард. – Молчала бы, без советчиков как-нибудь обойдусь.
– Без меня не обойдешься. Я – твоя совесть и вторая, причем, правильная голова. Сам говорил.
– Это когда было-то. Еще в школе.
– А что с тех пор изменилось? Все равно тебе одной головы маловато будет.
– Ладно вам. Еще поругаетесь, – как всегда вступилась за своего «младшенького» Дора Михайловна. – Ешьте лучше. Да помалкивайте. Беда у нас – дядя Богдан умер.
– Когда? – встрепенулась Лена.
– Ночью. Сегодня утром звонили, – ответил вместо жены Олег Александрович. – Сказали, инфаркт. Точнее выясню, когда вернусь.
– Завтра летишь?
– Сегодня в ночь. До больницы не довезли, скончался в машине «скорой помощи». Вот так-то вот. Теперь я один из братьев остался, – добавил он со вздохом. – Да, хиреет р-р-род Башотовых.
– А племянники твои, Михай со Штефаном? – Спросила жена.
– Тоже, вспомнила… Один в Германии, другой – в Белоруссии. А в Молдавии уже никого не осталось – разлетелись, разъехались.
– В Молдове, в Беларуси, – поправил отца Эдуард.
– Я таких названий не знаю. Я буджакский, в Бессарабии р-р-родился и вырос. С тем и помру. Это вы с сестрой коренные р-р-россияне, вам виднее.
– Ты рассказал бы детям как-нибудь, как провинциальный босяк, ты сам себя, помнишь, однажды так назвал, из строителя вырос до врача и генерала, – обратился сын к отцу. – А то все поминаешь, к слову, то про то, то про это. А толком-то никогда не рассказывал.
– Долгая песня и что-то не поется.
– А если прозой? – попросила Лена.
– Хм. Прозой… Да и прозой непросто. Ну, что? Учился в школе, как р-р-родители скончались, пошел в ПТУ.
– Политехнический университет? – спросил Эдуард.
– Ну, конечно, – рассмеялась Дора Михайловна. – Университет! Бывшие ремесленные училища, где учили разным ремеслам. Вот его-то отец ваш и окончил. Потом поработал немного на заводе слесарем. Случайно увидел в газете объявление о наборе в военно-техническое училище. И поступил. Так все было? – обратилась она к мужу.
– Вот и продолжай. Тебе виднее.
– Конечно, ты же уже ничего не помнишь. Все наши даты забываешь, дни рождения пропускаешь, июнь с июлем путаешь…
– Ну, уж! Ты, Митродора, палку-то не перегибай, – тихо, но с явной обидой в голосе произнес Олег Александрович, вспоминая по такому случаю полное имя супруги.
– Мам, а как папа в медицину попал? – чтобы предупредить намечающуюся размолвку между родителями, спросила Лена.
– Да, да, – поддакнул брат, – каким ураганом тебя в царство Гиппократа занесло?
– А вот про это – в следующую пятницу, – просветлел отец лицом. Будто освободился от тяжкого груза. – А сейчас доедаем заму, и я готов выслушать ваши доклады.
– Чур, я первая! – подняла руку Дора Михайловна. – У нас в третьем отделении произошло знаменательное событие. Нас посетил сам генерал-лейтенант Снегирев! С инспекцией! Ходил по кабинетам, интересовался отзывами пациентов. Он и на других этажах побывал.
– Ну, и что? Начальнику управления положено интересоваться обстановкой в ведомственной поликлинике. Претензии, жалобы, р-р-разгоны? Никого не уволил?
– Как всегда, все недовольны. Особенно ветераны. Но благодарят и кланяются. Кого же увольнять, когда и так вакансий полно. Не хотят врачи в бесплатную медицину.
– Парадокс и казус – развел руками Эдуард. – На живого человека не угодишь.
– Неудовлетворенность – двигатель прогресса. И чем закончился генеральский визит? – Спросил отец, не реагируя на замечание сына. – Без болячки генералы в поликлинику не ходят.
– Не знаю. Я до высоких административных сфер не допущена. Да и не мое это. Мое дело больных лечить – у специалистов консультировать, рецепты выписывать да процедуры назначать. Но говорят, что нас будут переводить в другое помещение. Вроде, как и губернатор согласился строить для нас новое здание на Верхнеуральской.
– Это же совсем недалеко. И когда переезд?
– Вроде, через год.
– Красиво жить не запретишь. Но навредить можно! Охотники всегда найдутся, – с сожалением закончил Олег Александрович. – А что у тебя? – Посмотрел он на дочь.
Делиться своими неприятностями Лене не хотелось. Ей всегда казалось, что груз ответственности, забот, тем более неприятностей, распределенный между близкими, не только не облегчает участь носителя, но еще и усугубляет ее из-за ухудшения их самочувствия по твоей вине. Да и потом, что за проблема посвятить пару дней общению с сотрудниками полиции? Но не удержалась. Излила накопившуюся досаду и на генерала Снегирева, в детстве называвшего ее Еленикой-маленикой, и на Альвианыча. А, главным образом, на самую себя, за то, что, считаясь сильной натурой, способной противостоять превратностям судьбы, не может переломить застрявший в душе леденящий стержень, который мешает жить и радоваться жизни.
– Да, я в курсе, – Виталий Васильевич мне звонил…
– Тебе? Зачем? Как твой Альвианыч сказал бы: обложили демоны! И крест животворящий не поможет.
– Да не ерепенься ты. Кто кроме отца с матерью тебя поймут и поддержат? А повезет, так и направят. Сколько времени-то прошло!? Нельзя же всю жизнь жить с камнем за пазухой. И не злись. Тебе это, сама знаешь не к лицу.
Об этом отец мог бы и напоминать. Лена всегда, как могла, старалась контролировать свои эмоции. Но иногда они ускользали от ее недреманного ока, и тогда у нее повыше подбородка проступал заметно искажающий ее лицо уродливый шрам – следствие несвоевременно и потому неудачно проведенной операции.
«А, ведь, это неправильно и несправедливо, – размышляла она, помогая матери убирать со стола и перенося посуду на кухню. – Родителей, понятно, интересует, что нового у детей, чем они живут. А ей-то, ей интересно, что происходит в жизни ее самых близких и родных людей, что у них на работе, какие радости, какие горести? Эдька, не в счет, его жизнь перед нею, как на ладони. Да и мало в ней чего интересного – работа, деньги да девицы. Нет, – признавалась Лена сама себе, – у родителей все, вроде бы, складывается само собой, с помощью какой-то потусторонней силы. Вот сегодня брат спросил, как отец из строителя превратился в хирурга, а ее это даже никогда не интересовало: папа всегда был папой, мама – мамой».
Сначала они жили в Ташкенте, где окончили школу. Оба хотели в медицинский, как родители. На брата, мужчина же, продолжатель рода, ресурсы нашлись. Ей – не досталось. Уговорили поступать там же на журфк. И кто уговорил!? Папины закадычные друзья – певец эпохи Альвианыч, непререкаемый авторитет по жизни Константин Алексеевич, да еще «надежа и опора» Снегирев. На третьем курсе перевелась на родину. И тут друзья – не разлей вода снова оказались все вместе. Вскоре отца назначили главным хирургом военного округа, Снегирев из заместителя начальника УВД стал начальником управления, и Краснобаев так и остался главным редактором им же самим созданного журнала.
А что было до этого? Об этом никто из них никогда не говорил во время общих встреч и застолий. Было только известно, что когда-то они окончили одно военное училище. А что было у родителей до их с братом рождения? Как они нашли друг друга? И почему у отца и у них у всех фамилия не молдавская? Не Райко, не Чобану, не Мунтяну, в конце концов, а Мирские… Вот уж действительно, сапожник без сапог… «Журналистка, называется, – упрекала Лена сама себя, – в чужие жизни влезаешь, а судьбами своих близких по-настоящему поинтересоваться руки не доходят».
Недовольная собой, она решила сегодня же составить план беседы с отцом в следующую пятницу. Особое место – роль оппонента в трехсторонней беседе – она решила отвести своему бесхитростному братцу.
3
Ворота, конечно, оказались закрыты и на требовательные сигналы водителя никто их открывать, по-видимому, не собирался. Курившие неподалеку трое сотрудников полиции с одинаково ироничными улыбками и, вместе с тем, с большим интересом посматривали на высокую девушку в стильной белоснежной куртке и небольшой кокетливой шляпке, из-под которой на ее плечи волнами ложились темные до черноты волосы. Выходя из машины, она досадливо хлопнула дверцей своего далеко не нового Опеля и решительным шагом направилась ко входу в областное управление внутренних дел. Едва она ступила на бетонное крыльцо и протянула руку к двери, как створка распахнулась и, чуть не сбив посетительницу с ног, на крыльце возник крупный краснощекий молодой человек в форме майора юстиции.
– Здорово, Мирская! Я за тобой. Заводись, ворота сейчас откроют. Я не знал, что ты на машине, – выпалил он на одном дыхании, виновато улыбаясь и подавая ей руку.
В заполошенном смущенном полицейском Лена без труда узнала Германа Борщова. Точнее Германа Константиновича, ставшего недавно начальником отдела по взаимодействию с прессой УВД. Они познакомились давным-давно, еще в детстве. Но взрослыми впервые встретились несколько лет назад на семинаре, который проводился научным медицинским сообществом для местных журналистов. Потом несколько раз виделись на заседании областной Думы, в Союзе журналистов. Но тесного знакомства так и не свели. Слишком уж разными были сферы интересов и круги общения. И вот пересеклись-таки.
– Отсюда не угонят, – ободрил ее Борщов по дороге к отделу после того, как Лена припарковалась во дворе и тщательно проверила, заперта ли машина. – Я буду работать с тобою, – радостно, как показалось ей, продолжал майор. – Ты не возражаешь?
– Возражаю, – почти резко ответила Лена. – Я девочка взрослая, привыкла работать самостоятельно и в опеке не нуждаюсь.
– Я так и думал. Меня предупреждали.
– Что взрослая?
– Нет, что заносчивая.
– Ты, Борщов, не обижайся, – примирительно сказала Лена, почувствовав, что ее категоричный ответ прозвучал грубовато. – Ну, в самом деле, что тут сложного? В ваши служебные дела и проблемы я соваться не собираюсь. А люди… Они и в полиции люди – глупые и умные, добрые и злые…
– Подлые и благородные, – подхватил Герман, – надежные и безнадежные. Так?
– Ну, да. А еще балаболы вроде нас с тобой, – Лена весело рассмеялась.
Они были уже в здании, поднимались на второй этаж, когда Герман тронул Лену за рукав.
– Ты не беспокойся, я тебе постараюсь не мешать, но без сопровождения не оставлю. Но и ты меня не игнорируй. Я, ведь, с тобой не по собственному желанию.
– Понимаю. Токмо волею пославшего тебя генерала?
– Естественно. Все-то ты сечешь на раз. Кстати, начальницу, к которой мы идем, зовут Эльвира Степановна, а ее заместительницу Светлана Кирилловна.
– Знаю, Лепнина подполковник юстиции, начальник отдела, заслуженный работник, ветеран, гордость следственного управления и всего УВД. Любимица личного состава и так далее и тому подобное. Я же не первый день в журналистике, подготовилась. А замша?
– Полужайко, майор. Да ты их и так и не спутаешь: черная и рыжая, «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…». А теперь уж стали неразлучны.
Своего кабинета у Лепниной не оказалось. В здании шел ремонт, и до его окончания она расположилась в общей комнате вместе со своими подчиненными. Лена почему-то предполагала увидеть солидную даму старше средних лет, с неизменной папиросой в зубах и с короткой стрижкой. К тому же с ярко накрашенными губами и в очках, скрывающих проницательный взгляд карих глаз. По ее представлениям руководительница женского околовоенного коллектива непременно должна иметь облик суровый и мужественный, целеустремленный и бескомпромиссный. И не ошиблась только в наличии папиросы и короткой стрижки.
Они встретились и невольно улыбнулись друг другу, моментально уловив заметное им одним внешнее и, видимо, не только внешнее сходство: проницательная Лепнина разглядела в Лене себя тридцатилетнюю, а чуткая Лена – свой возможный будущий образ. И этого оказалось достаточно, чтобы между ними наметилась взаимная симпатия.

Эльвира Степановна сочла необходимым познакомить корреспондентку со всеми своими сотрудницами. По случаю представления все они, заранее предупрежденные, были одеты по форме и находились на своих рабочих местах. Ирина Воробьева, сидя за компьютером, внимательно, словно выискивая «битые» пиксели, всматривалась в экран монитора, Виктория Вольская, только что вернулась из следственного изолятора, где проводила допрос задержанного, и разбирала свои записи. Ольга Семенова, дежурившая в этот день в составе оперативной группы, проверяла работу диктофона. В отличие от девушек заместитель начальника отдела Светлана Кирилловна Полужайко, действительно оказавшаяся обладательницей огненно-рыжих волос, рассыпанных по плечам, даже не пыталась делать вид, что безмерно увлечена служебными обязанностями. Она внимательно рассматривала Мирскую и Лепнину, сравнивая их и, видимо, улавливала сходство.
Остальные девушки были на задании. Борщов молча стоял у окна и с интересом наблюдал за тем, как Лепнина слева направо, начиная от входной двери подводила Лену поочередно к каждой из присутствующих. Та вставала, представлялась и получала от своей руководительницы краткую характеристику. Герману, в недавнем прошлом следователю, это напоминало процедуру осмотра места происшествия, при которой он невольно выполнял роль понятого. Ему даже подумалось, что, покончив с официальной частью, Эльвира Степановна вернется на свое место и непременно приступит к составлению протокола.
Если посмотреть со стороны, как на объект фотосессии, девушки являли собою воплощение противодействия уголовной преступности. В глазах журналистки они выглядели дисциплинированными и работящими, идеальными борцами за торжество закона, возложившими себя на алтарь следственной практики. Одетые с иголочки в черные кители, которые эффектно подчеркивали плавные изгибы фигур и сидели на них, как влитые, они ни в чем не уступили бы мировым топ моделям, если бы тем пришлось демонстрировать российское полицейское обмундирование. «Служебной формы писк», – пронеслась у Лены в голове, заставившая ее невольно улыбнуться, озорная мысль. О прическах и говорить нечего – что ни голова, то вершина парикмахерского искусства. Однако, этот фрагмент показательного выступления не был чем-то незаурядным и нисколько не удивил Борщова. С такими прическами они были всегда, сколько он их помнил. Культ приходить на работу, будто только что из парикмахерской, возник после того, как в присутствии коллектива у Лепниной произошел мимолетный разговор с заглянувшим в отдел генералом Снегиревым. Во время доклада Лепнина, как всегда ухоженная и причесанная, произнесла:
– По штату в отделе шесть аттестованных сотрудников…
– А сотрудниц-красавиц? – как бы между, прочим бесцеремонно спросил генерал, окинув недовольным взглядом недостаточно аккуратно причесанных девушек, считавших, что на работе внешний вид не имеет значения. С того дня у них повелось вставать на работу еще раньше.
Протокол составлять Эльвира Степановна не стала. Покончив с формальностями и, по всей видимости, сделав для себя некоторые выводы по ходу короткого общения с Мирской, она, не мудрствуя лукаво, просто предложила попить чаю. Едва Лена кивнула в знак согласия, обстановка в отделе резко переменилась. Девчата моментально сбросили с себя панцирь официальности, тут же изобразили чайный стол из своих рабочих тумбочек, откуда-то, как по волшебству на нем появились чашки, сахарница, упаковка пакетированного чая и домашнее печенье. Из соседней комнаты принесли кипящий электрический чайник. И… растворились. Полужайко также попросили разрешения выйти. В кабинете остались Мирская с Борщовым и Лепниной.
Судя по ожидающим взглядам присутствующих, Лене предстояло представиться, по возможности неформально, и поделиться первыми впечатлениями. И она не преминула воспользоваться ситуацией.
– Вы хочете песен? Их есть у меня. В первом куплете сообщаю, что ничего в полицейской службе не смыслю и полицию не люблю. У меня был некоторый опыт общения с вашей системой, и результат оказался, мягко говоря, плачевный. В том числе и в прямом смысле этого слова. Во втором куплете следует заметить, что у меня есть в творческом багаже маломальский опыт журналистской работы, некоторые профессиональные навыки. Если я за что-то берусь, то обычно, если не попадаю под каток форсмажорных обстоятельств, довожу до конца. И, наконец, третий куплет о том, что все написанное я перед публикацией покажу вам, Эльвира Степановна, и, разумеется, Борщову. Чтобы не было самой стыдно за свою писанину, и чтобы вас не выставлять на посмешище. При любом раскладе вы профессионалы, вам и карты в руки. По сравнению с вами я всего лишь борзописец. Но я постараюсь. Такой расклад, я думаю, всех устроит.
Чем дольше говорила Лена, тем моложе становилось лицо Лепниной, тем уверенней чувствовал себя и Герман Борщов. Они оба знали подоплеку задания, которое получила Мирская, были наслышаны и о непростом характере журналистки, способной на резкие суждения и неординарные выводы. К тому же Лепнина была хорошо осведомлена о некоторых непубличных фрагментах биографии Мирской. Так же, как и Борщов, она знала о ее близком знакомстве с начальником УВД, о дружбе генерала с отцом Лены. Не понаслышке знала она и о происхождении едва заметного шрама на ее подбородке.
– Спасибо, Елена Олеговна. Думаю, мы поняли друг друга и, надеюсь, выражу наше общее с Германом Константиновичем мнение, если скажу, что исковеркать можно, что угодно и всякую мысль можно исказить до неузнаваемости. Раньше было как-то построже, было принято консультироваться со специалистами, а сейчас, и в газетах, и по радио, и на телевидении такое городят… Ладно в фильмах. У них это называется художественное допущение. Что не детектив, то нарушение законности чуть ли не в каждом кадре. А потом мои девочки меня спрашивают: «А что, Эльвира Степановна, теперь можно выезжать на место происшествия одному оперу без опергруппы?». Или место происшествия априори называют местом преступления, хотя его еще никто не видел. Сколько раз сама слышала: «догнали и арестовали», «следователь уголовного розыска».
– А что в этом плохого? – спросила Лена.
– Все. Если догнали подозреваемого, то только задержали. Арестовать, то есть заключить человека под стражу, можно исключительно по решению суда. А «следователь уголовного розыска» это – сочетание несовместимых понятий. Это же эклектика. Это все равно, что сказать про кого-то, что он по профессии «инженер медицины».
– О, Эльвира Степановна, в этом, есть что-то такое, поэтическое, – заметил Борщов.
– В поэзии может быть и уместно. А у нас уголовные дела возбуждаются, а не заводятся. Не мыши же. Человечество погубит непрофессионализм. В том числе и в таких мелочах. Такое даже новичкам непростительно.
Возбужденно рассуждая о наболевшем, Лепнина, тем не менее, не упустила момент, когда Мирская мимолетным движением словно из рукава извлекла из кармана и включила диктофон. Не привыкшая к таким журналистским приемам, она замолчала. Лена жестом показала, что все в порядке, но разговор дальше уже не клеился.
В этот момент раздался легкий стук в дверь и на пороге кабинета возник очень молодой человек гражданской наружности.
– Разрешите, Эльвира Степановна?
– А, Петр Васильевич, вы очень кстати. Про вас-то мы только что говорили. Познакомьтесь, Елена Олеговна. Это – единственный в своем роде и неповторимый член, – она сделала короткую паузу, – нашего коллектива – следователь-стажер лейтенант юстиции, выпускник юридического факультета нашего университета Самойлов. Ты как здесь оказался? – без перехода обратилась она к нему. – Ты где должен быть?
– На складе.
– Правильно, а почему здесь?
– А я с жалобой, – с вызовом, гордо задрав подбородок, заявил Петр Васильевич. – Мне выдали неполный комплект обмундирования. Говорят, нет подходящей по размеру фуражки, одни «аэродромы». А без форменной фуражки на улицу не выйдешь. Мне очень хочется завтра показаться маме при полном параде. Она так ждет меня. Я полгода дома не был.