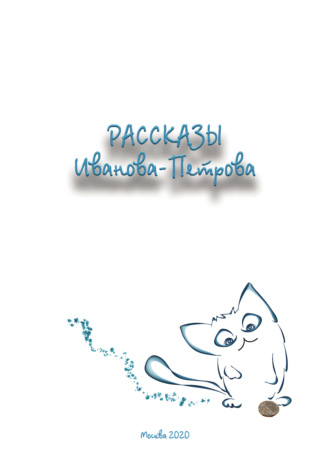
Полная версия
Рассказы Иванова-Петрова
Короче, у нас шел «Фигаро». Репетировали все, ясное дело, как были – чего уж тут. Но на первое выступление в этом году, по осени, надо было снаряжаться по полной выкладке. Мы, рабочие сцены, едва успели раскрыть оркестровую яму, забить на полагающиеся гвозди, расставить реквизит – как вдруг нас позвали в костюмерную.
Аврал. За лето у нас что-то произошло с Сюзанной. Я не отследил деталей – то ли прежняя Сюзон забеременела, то ли ушла в другой театр и эта была уже новой, то ли наша старая Сюзанна переотдыхала на юге и набрала пятнадцать килограмм – но только в платье Сюзанны она решительно не лезла. Ни, так сказать, передом, ни задом. Платье болталось в руках выбившейся из сил костюмерши, и терялось перед фигурой Сюзон, подобно дамской бальной перчатке перед могучей рукой каменщика.
Несчастный завпост, весь в мыле, жадно курил. Он был призван на помощь первым и минут десять пытался вмять Сюзанну в платье, но безуспешно. Платье слегка порвалось, Сюзанна была помята. Тут и вызвали спасательную авральную команду – нас, троих рабочих сцены. Мы должны были помочь. Мы были последней надеждой спектакля.
Мое проклятое прошлое отзывалось внутри нехорошими мыслями. Я по происхождению своему из биологов буду занимался поведением, дрессировал, так сказать, зверей. Точнее, изучал условные рефлексы у пчел. Из этих занятий с пчелами я твердо усвоил, что насильно ничего добиться нельзя. Можно только налить сладкого сиропчику и приманить непослушную особь. Создать, так сказать. Адекватный биологии привлекательный раздражитель, и дело пойдёт само.
Созерцая Сюзанну, я поглядывал на платье и размышлял, чем Сюзанну можно в это платье заманить. Однако руководство операцией было в руках костюмерши. Оказывается, от нас не требовалось нетривиальных решений и работы головой. Все было просто. Платье накинули на Сюзанну спереди, выпростали потерявшиеся на необъятной спине веревки, и нам предложено было стянуть платье.
После первых двух попыток нам было доходчиво объяснено, что деликатность тут неуместна, что мы так до вечера провозимся, а первый звонок уже был. Так что надо работать всерьез. Один слабонервный студент удрал, сказавшись занятым на сцене, а мы с напарником уперлись коленями в сюзаннин зад и что было сил потянули веревки.
Моряком я никогда не был, тем более на парусном флоте, но думаю, что некоторый опыт приобрел. Сюзанна билась под ногами, как палуба в шторм, и стонала. Веревки резали руки, платье трещало – оно, кстати, было по недосмотру сделано не из парусины. Но кончилось все хорошо. В несколько дружных рывков мы стянули Сюзанну до платяных размеров, завязали веревки морскими узлами, дернули все это дело для страховки несколько раз и убедились, что не упадет.
Костюмерша осталась ругать Сюзанну и приводить ее в чувство, а мы пошли перекурить и вытереть честный трудовой пот. Потом настало время идти за кулисы, следить за светом, занавесом, сменой реквизита и, между делом, за ходом спектакля.
Сюзанна была удивительна. Перетянутая, как батон ливерной, он была багрового цвета и пела как-то странно, определенно с чувством, но каким-то не таким. Не влюбленным, что ли? Впрочем, я не театрал. Судя по аплодисментам, публике нравилось. Передвигалась милая Сюзон несколько скованно, что вполне могло быть расшифровано как девичья робость. Что ж, оригинальное решение образа Сюзанны, я так это называю.
Настоящим шоком для меня стал выход пастушек, которые, если помните, идут поздравить Фигаро и Сюзанну. Стайка милых девчушек должна легко выбежать на лужайку перед графским замком, с венками и цветами, напевать и увенчать… Видите ли, старик Аристотель писал, что по настоящему человек может понять только то, что он сделал своими руками. Глубокая мысль, и оправдывается опытом. Сюзанну я делал сам, и меня ее вид не удивил. А кордебалет пастушек у себя в раздевалке обходился своими силами…
Оказывается, дура-костюмерша летом догадалась свезти все тряпки в стирку. До этого они пять лет жили так, и все было хорошо. А она, из-за какой-то чистоты… Все костюмы сели. Так сказать, в разы. И девочки, все с хорошими габаритами – уж поверьте – обходились своими силами. Они это сделали, оделись. На них были маленькие красные и черные корсажики, такие миленькие на пастушках, и коротенькие юбочки. В зависимости от расположения главного центра тяжести пастушек проперло в разных местах. Иная сверху выглядела почти как пастушка – ну, скажем, мать пятерых детей, но сзади уже не была ничем прикрыта, поскольку вся ткань ушла прикрывать бюст. Другая шла, и сзади все вполне прилично, платье почти закрывало трусы, но спереди недостатки ткани сказывались, корсажик терялся где-то у пояса, а выше воздвигались… Холмы прохладной пены… Нет, как-то иначе… В общем, в стихах это было прелестно.
Худощавый Фигаро крепился как мог и старался смотреть на Сюзон. Опытный Альмавива, столь сдержанный в вопросах собственного туалета, тут оказался слабоват и беседовал с пастушками гораздо дольше, чем следовало. Главный шипел из-за кулис, Альмавива блаженствовал, пастушки тихо матерились и терпели.
После спектакля главный устроил всем разнос, похвалил рабочих сцены за оперативное вмешательство и смелое решение проблемы, и дико ругал костюмершу. Набираясь понемногу театрального опыта, я понял, что костюмы не надо стирать. Никогда. Если будут деньги, стоит купить новые. Но это фантастика – деньги, да еще на костюмы… Этого не бывает. И поэтому их просто не надо стирать. Они от этого лучше сидят. Я называю это экономией.
2004
Первый выход…Хорошим тоном считается, когда работник считает именно свою работу самой важной, самой необходимой для общего дела. Лично я скептически отношусь к этому пережитку коллективизма. До общего дела, то бишь спектакля, мне дела нет, и я охотно признал бы рабочего сцены совершенно неважной деталью великой театральной машины. Там есть грозные главрежи, шустрые помрежи, ответственные завпосты, истеричные примадонны и величественные басы. Пусть их будут главными, но… Тяжкий опыт работы убедил меня, что рабочий сцены вынужденно оказывается центральной фигурой.
По крайней мере так часто случалось в нашем театре. Это рабочий сцены совершает различные действия с реквизитом, он строит мир, жить в котором будут актеры. Актеры на виду, их видит зритель… Чувствуете? Вам ничего не напоминает? Некто строит мир и уходит за кулисы, а потом всякий люд в цветном платье голосит со сцены. Кто здесь самый важный? Без кого всего этого бы не было?
Вот из детства своего вспоминаю я поход в театр. Это было в семидесятые, в Большом. Шел «Фауст». Мефистофелем был артист немалого роста и вообще – крупный. В одном из актов сцену занимал огромный храм с величественными, через всю площадку, ступенями. Выше громоздились ворота, арки… Из-за кулис энергично выбежал Мефистофель, с разгону прянул ногой на нижнюю ступень, чтобы начать арию… Весь храм – две трети сцены, – содрогнулся и поехал. Вот вражья сила! Мефистофель, конечно, петь начал, продолжая удерживать ногу на ступени, но ему пришлось прыгнуть на другой ноге два-три раза, чтобы сохранить позу в условиях рывками удаляющегося храма.
Кто всё это сделал? Кто создал величественный храм из фанеры и папье-маше, кто натянул все тряпки на каркас ворот? И кто, наверное, не раз предупреждал врага рода человеческого – не дергайся, не в конюшне, это ж реквизит, тут плавно надо, душевно… Но лукавый не слушал, и вот результат.
Надобно сказать, что театральный реквизит – это вообще отдельная тема. Поведение его непредсказуемо, ибо мы творим театральный мир из уже готовой материи, вечно готовой сломаться. Эта ее слабая устойчивость иногда и приводит к явлению демиурга. Помню, на одном из первых моих спектаклей обнажилась яма. То есть эти неумелые оркестранты то ли громко заиграли, то ли неловко повернулись, – а только со стенки, которая отделяет зрительный зал от оркестровой ямы, упал бордюр. Это здоровенная такая штука, три метра длиной, три доски сбиты вместе поребриком, сверху все обито ватой и красным бархатом. И вот эта дура с грохотом обвалилась в зрительный зал.
Зритель сидит, в ус не дует. Нет бы поднять, приладить… Главный меня подозвал и велит идти в зал, поставить бордюр. Я пытался что-то сказать – мол, не готов к выходу, надо б хоть за день предупреждать, я бы как-то… Иди, и все. Я ему – ну хоть в антракте, что ж посреди действия. Фигня, говорит, и еще разное говорит, и нервный он сегодня, и вот еще бордюр упал последней каплей – иди, поднимай.
А работали мы в условиях очень антисанитарных. Человек на 90 % состоит из воды, а реквизит театра – на 90 % из очень пыльных тряпок огромного размера. Занавес – это еще ничего. А есть еще бесчисленные задники, есть та безразмерная подстилка, которую на сцену стелят, и еще какие-то чехлы, скатерти, половички… Перед работой я переодевался, натягивал старые штаны, оставшиеся от школьной формы. Была такая, древняя, синяя, дико прочная – ничто ее не брало. Вот эти штаны, характерные для облика девятиклассника, на мне и были. В них хоть в пыль, хоть во что – не жалко. Ну и рубашка была – рваная и цвета многослойной пыли.
Артисты что-то драматическое показывали, зал аж притих, жевать перестал, оркестр тревожно так грянул и примолк… Тут из боковых кулис выхожу я, двигаюсь к середине сцены, спрыгиваю на пол в зрительный зал и деловито начинаю тягать бордюр. Зритель за мной следит, затаив дыхание.
Что там у актеров заело, не скажу, может, им тоже любопытно стало, но они свою мизансцену тянут и тоже на меня глядят. Так что я – в центре внимания как сцены, так и зала. Видимо, сыграл роль древнейший инстинкт: люди очень любят смотреть, как другие работают. Если б актеры работали, на них бы тоже смотрели. Но они как-то… Короче, работал я, и внимание невольно потянулось ко мне.
Что делать – вошел в роль. Вперевалочку подошел к этому бревну в бархате, ухватисто так его подхватил, подволок к стенке оркестра, один конец приложил, как надо… Тут дело какое: та дурная стенка – толщиной сантиметра два-три, и на ней хитрым образом укрепляется та дура, что у меня в руках, три сбитых доски, совместной шириной сантиметров 12–14. То есть ее закрепить надо, ловко уложить. Один конец положил – а как другой приладить? Мы это всегда вдвоем делали, в одиночку не справиться. Пока один конец кладешь, все нормально, пошел другой прилаживать – этот упал.
Ну, я зрителя посолидней из первого ряда выдернул, дал ему в руки конец бревна, пошел за другим. Вместе мы легко бордюр подняли, на стенку поставили, этак лихо, по-рабочьи прихлопнули, чтобы крепче было… Отлично получилось. В это время актеры что-то играть начали. Но весь зал наблюдал за нами.
Мы очень живо работали, с чувством. Кто-то сопереживал мне, но большее внимание досталось тому солидному дяде из зрителей. Я не ревную – действительно, у него получалось хорошо. Невзирая на пиджак, он пузом объелозил весь пыльный бордюр, прилаживая его покрепче, что-то там внизу подковыривал, чтоб лежало устойчивее… Отлично сработал.
Когда бордюр лег на место, я хотел просто удалиться в ближнюю кулису, но мой напарник пошел за мной с рукой, раскрытой для рукопожатия. Не знаю, я в театре недавно, кажется, после удачно сыгранной сцены актеры не обмениваются рукопожатиями?.. Это только потом, на бис когда. Или надо было?.. В общем, я смущенно ушел за кулисы, всем своим видом выражая – не благодарите меня, дело обычное.
Я называю это хорошей работой.
2004
Р-реквизит и тяжелоактрисаЯ уже говорил, что самое важное на сцене – это реквизит. Это не шутка, я точно знаю. Вот, например, столь надоевший мне «Фигаро». Там в первой сцене Сюзанна вертится перед зеркалом, беседует с графиней о каких-то пустяках. Реквизита всего ничего – окно, зеркало, пара стульев…
Зеркало – это из беленых стальных труб диаметром три сантиметра сварная конструкция, вроде ворот в парке – с виньетками, загогулинами и прочими стальными излишествами. В середине у нее такой пустой овал, загогулинами не заполненный, напоминающий чем-то вид на сельский туалет сверху. Это отверстие надо забрать фольгой, чтобы было как зеркало. Правда, фольга мятая и пыльная, но зритель должен чувствовать, что у его воображения есть опора, и поэтому фольгу, от спектакля к спектаклю всё более рваную, надо обязательно туда вешать.
Варили эту продукцию тяжелого машиностроения по личному заказу главного на каком-то дружественном театру заводе. Инженеры хорошо продумали все завитушки на двух квадратных метрах поверхности зеркала Розины, но не догадались об одном. Эта штука была плоской – то есть все трубы одна над одной, конструкция высотой больше двух метров, – и ни одной подставки, откоси-ка какого, ножки, чтобы это дело опереть и чтобы оно стояло.
Поэтому, предоставленное самому себе, зеркало падало. Ущерба сталь не несла никакого, но тот из рабочих, на кого приходилось хоть краем этого счастья, запоминал особенности зеркального устроения надолго. Чтобы Розина могла вытворять свои дамские штучки перед зеркалом, его прислоняли к кулисе – стояло оно почти отвесно и как бы само по себе, но снизу в сцену я вбивал гвоздик сантиметров на 7, оттого зеркало не уезжало по полу и держалось. На этом самом гвозде.
Что такое гвоздь, все и сами знают – из мировой литературы и поэзии. А что такое завпост, знают все театралы. Так вот, у нас, рабочих сцены, регулярно пропадали гвозди. Молоток у нас был – один на весь театр, очень старый, ржавый, с выскакивающей ручкой, его все стеснялись унести и потому он жил при сцене. Гвозди – дело другое.
Один раз завпост купил мешочек гвоздей. Они загадочно исчезли – ну что ж, у всех квартиры, дачи, мужики вокруг хозяйственные. Завпост с дикими стонами о потраве кассы театра купил еще горстку, оставил у себя в столе и выдавал по одному. Однако возвращать гвозди в прежнем количестве мы ему не могли – то этот ценный инвентарь погнется, то в щель сцены провалится, то вообще как-то потеряется без особых причин. Увидев, что горстка гвоздей в три дня истаяла наполовину, завпост решил, что жизнь нужно принимать, какая она есть, унес гвозди домой, а нам приказал обходиться тем, что есть. «Что вы, безрукие, что ли? – вопросил он своих подчиненных в нашем лице. – Походите вокруг, поищите. Люди на улице деньги находят, а вы что – пару гвоздей не можете найти?..».
Через пару дней почти все гвозди пропали. Стойко держались только три гвоздя, громадных, ржавых, кривых, на которых никто из хозяйственных театральных работников не льстился. Эти три гвоздя были для нас очень дороги, без них встал бы весь производственный цикл. Безразмерный напольный ковер, которым застилали сцену, полагалось прибивать по краям гвоздями, чтобы держался внатяг – а то артисты спотыкались и говорили нам разные нехорошие слова. В отсутствие гвоздей мы обкладывали его по краям тяжеленными грузилами, спертыми с колосников – каждое по десять кило, запросто не сдвинешь. Но спереди, у самого края сцены, на глазах у зрителей положить тяжелые свинцовые чушки – этого наша трепетная театральная душа вынести не могла. И мы тратили каждый раз два гвоздя, чтобы укрепить передок этого напольного ковра.
Последний, истинно золотой гвоздь, полагался к зеркалу, которое без него, как это я уже говорил, падало – либо съезжало по кулисе вниз, ловко подсекая стоявшего перед зеркалом в коленки, либо рушилось на него сверху, глядеть на что без содрогания было невозможно.
И вот настал черный день, которого мы, работники сцены, ждали давно. Куда-то задевался последний гвоздь. Мы закрепили ковер, обрушили на себя тонны пыли и опустили задники, выпустили боковые кулисы, подняли занавес, поставили окно и пару стульев – особо-театральных, тоже из беленых сварных труб, весом как бронированный мерседес. Неужели в замке Альмавивы жили с такими стульями? Бедный феодал… Зеркало закрепить было нечем. Я просто прислонил его к кулисе, чтобы не съезжало, и отошел, не дыша.
Перед спектаклем я отловил Сюзанну. Я смог остановить ее внимание, хотя она все время порывалась то доругаться с одной актрисой, то договориться с другой о каком-то Олеге. Улучив мгновение, я овладел вниманием Сюзон и объяснил ей ситуацию. Хорошенькая головка актрисы решительно не могла вникнуть в проблемы, связанные с отсутствием гвоздя. Я чувствовал, что близок третий звонок, а она ничего не понимает. Я решительно взял ее за плечи, слегка тряхнул и запоминающимся тоном сказал: «Будешь вертеться перед зеркалом – не трогай его! Даже не прикасайся! Поняла?» Актриска мотнула головой и облегченно убежала в гримерную.
Пошло первое действие. Сюзанна мило распевала, мотаясь по сцене, беседовала с графиней, подобралась к зеркалу, стала прихорашивать шляпку на буйно растрепавшемся парике… У всех есть рефлексы. Сюзанна была актрисой, но при этом, к сожалению, женщиной. Она стояла перед грубым переплетением стальных труб, в середине которых корчилась мутная фольга, вокруг были пыльные занавески, и я же говорил ей…
Всё было забыто. Она пела, поправляла куделяшки, шляпку, повернулась раз и другой, а потом взялась за зеркало, чтобы как бы повернуть его под более удобным углом. Это штуку килограмм на восемьдесят, из труб – повернуть… Зеркало, до того державшееся на моем честном слове, легко качнулось вокруг оси и стало падать на Сюзанну.
Дальше работали уже не женские, а общечеловеческие рефлексы. Убежать она бы не успела – ее бы припечатало к сцене. Она смогла, пока наклон зеркала не стал критичным, ухватить его – и встала перед ним. Руки вытянуты вверх, как у штангиста – она держала зеркало. Жалобно повернувшись к своей визави, она продолжала партию, хотя чувствовалось, что вес – немалый.
Они с Розиной довели дело до конца. Обычно после этой сцены опускают лишь легкий занавес, быстро меняя пару стульев на стол, но тут был опущен главный занавес, глухой, и наша команда рабочих отправилась избавлять тяжелоактрису от ее груза. Мы взяли на себя зеркало, завпост – актрису.
Как она ругалась – совсем не интересно. Как ругался завпост – тоже. Что думал зритель – просто скучно. Интересного я вижу в этой истории только одно. А именно – никаких гвоздей нам никто не дал и мы продолжали потом обходиться теми двумя, еще не потерявшимися. Сюзон злилась, но за зеркало уже не хваталась.
Я называю это обучением.
2004
Стол, бокал и манерыПосле долгих и мучительных постановок «Фигаро» главному пришла в голову счастливая идея – решительно обновить репертуар, поставив «Пиковую даму». Насколько я понял, решающим основанием для этого судьбоносного выбора было наличие стола.
Стол для «Пиковой дамы» – все равно что треуголка для Наполеона. За столом играют в карты, вкруг него блестящие офицеры, вся эта незнакомая карточная терминология… Абцуг и апелляция, вскрышка, вызов с онерами, инвит и консоляция… запрещенный фазер… Да. Стол был, и отличный – но, так сказать, в потенции.
Он пребывал в сарае во дворе театра. Собственно, он занимал собой весь сарай, ибо был действительно огромен. Щурясь в паутинные углы сарая, завпост сказал, что стол привезли, когда сарай еще не был доделан. Стол затащили и потом достроили стену сарая и крышу. Несколько театрального реквизита по углам сарая помещалось только потому, что стол был круглый, а сарай – квадратный. В свободной квадратуре валялась какая-то ненужная рухлядь, давно сгнившая, но стол был цел: огромный, больше 5 метров в диаметре, из цельных бревен.
Главный был главным и стоял на идее «Дамы» намертво. «Дама» без стола не могла никак. И потому нам, троим рабочим сцены, надо было сквозь январскую пургу доставить столовое чудовище через двор в здание театра и на сцену.
Отделить от него удалось только ноги. Эти бревна мы перенесли отдельно, а саму столешницу поставили на ребро и докатили до боковой стены театра, выломав сараю стену. В боковую дверь театра стол не лез – пришлось выломать панели стены (удалось – вдумчиво строили, понимали, что театр – штука разборная) и втащить стол внутрь, попутно обдирая все выступающие из стен занавеси, крючки, засовы, петли и штукатурку. Сам стол нисколько не пострадал – как был огромный и щелястый, весь в каких-то рубцах и запилах, так и остался. Кто и зачем его раньше топором рубил, не пойму. Но не дорубил.
Мы вкатили его на сцену, поставили в центр, пришили ноги: «Даму» можно было ставить. Стол накрыли какой-то необъятной пыльной попоной, которая будет играть скатерть. Поставили на него бутылку, которая будет играть дорогое вино.
Труднее было найти стаканы – ну не из чайных же, граненых, взятых из буфета, гусарам пить? Все же отыскались какие-то бокалы странного и, возможно, дореволюционного вида. Кого они играли раньше, сказать трудно, но были они изнутри и частично снаружи покрыты липкой несмываемой бурой гадостью. На этом субстрате произрастала жизнь – какая-то изумрудно-зеленая плесень длинными волокнами вросла, по-видимому, прямо в стекло. Попытка сполоснуть оживила плесень, та еще пуще зазеленела, и вид у бокалов стал совсем зловещий. Кто-то предложил помыть всерьез, но запускать пальцы внутрь бокала никто не вызвался.
Что делать? Против жизни не попрешь. В бокалы плеснули воды, которая сквозь буро-зеленые стенки отлично играла вино. Пахло это хозяйство так, что тот из рабочих, кому после проигрыша в шахматы выпадало волочь это на стол, держал бокалы на вытянутых руках, борясь с тошнотой, подбегал к столу, шлепал реквизит рядом с бутылкой и убегал отмывать руки.
Квалификация актеров была значительно выше. Им приходилось сидеть за одном столом с бокалами, играя офицеров и в карты, нести вздор, молодецки прикладываясь к… Как они это делали? Специфика таланта. Я не раз наблюдал, как артист недрогнувшей рукой брал один из бокалов, подносил к губам и делал вид, что жадно пьет. При этом, едва оторвавшись, произносил требуемые ролью слова, даже не давясь. Железные люди.
К столу и бокалам полагалась, собственно, еще одежда – форма всяческая гвардейская. Главный подорвался, и форму пошили. Она была разных цветов – мундиры малиновые, небесно-голубые, темно-зеленые, но все – из того материала, который идет на солдатские шинели. Не знаю, может быть, из зала были видны мундиры, но метров с пяти-семи зрелище было жутковатое. Что-то вроде малиновой телогрейки… Про то, как сидели штаны, которые играли панталоны, на людях, которые играли офицеров, я не скажу ни слова – раз истории санкюлотские, имею право.
Особенно подводило наших железных актеров неумение в этих мундирах жить. Как ни вешали на них густые эполеты, звезды орденов и всякие висюльки, сразу было видно – с этим мужиком ты вчера ехал в переполненном автобусе, этот не дурак поддать, а тот затюкан женой и зарплатой. В общем, не гвардейский у них был вид, хотя терпение и стойкость просматривались. На дворян, не то что столичных, но хотя бы непоротых, реквизита явно не хватало.
Из чистого любопытства я поинтересовался у помрежа, как тут быть и как другие обходятся. Помреж поведал мне театральную байку: будто был при одном из театров еще в 1970-х один старичок из бывших, он и учил артистов ходить, сидеть, глядеть и прочее. После его выучки они чем-то от посетителей метро отличались и впечатление от спектаклей было приличное. А потом старичок помер, и теперь во всех театрах так и играют, как есть.
Зато, напомню, люди очень профессиональные. Я просто не знаю, как можно было тот бокал к лицу поднести и запах вдохнуть – а они и на репетициях, и на премьере… По-моему, они даже пить из бокала бы смогли, если б надо было.
Я называю это отвагой.
2004
КонцертКак-то зимой я работал в институте имени Гнесиных, рабочим сцены при оперной студии. Обязанности мои во время дежурств на концертах состояли в вытаскивании рояля, установке на сцене исполнительских стульев, давании первого, второго, а по согласованию с исполняющим – и третьего звонков, а также в ответственном ожидании конца исполнительской процедуры. В налаженном ритуале дежурств я изучал дебюты, увлекшись «Книгой начинающего шахматиста», быстро забывая лица исполнителей, – как их называли специальным термином, концертантов. Но один мне запомнился.
Он пришел очень рано, за час до начала концерта. Пришел и стал без устали разыгрывать один пассаж, и я еще подумал: «Как ученик». Играл он минут сорок и, ворочая стулья, я успел хорошо его рассмотреть. Он был низенького роста, за пятьдесят, толстенький, чистенький, его исполненное щек лицо украшалось огромными выхоленными бакенбардами, напоминая немного дореволюционного городового, как их теперь обычно рисуют. Его сюртучок имел огромные отвороты – шире плеч, и был украшен затейливого вида пуговичками. Лицо его во время этой репетиции выражало полную серьезность и как бы даже усиленность.
Расставив всё, я дал первый и второй звонок, дворническим взглядом обвел пыльную сцену и направился к концертанту в уборную, куда он удалился после репетиции, чтобы согласовать время третьего звонка. Он сидел в крохотной комнатушке на какой-то легкомысленно надломанной табуретке и смотрел в окно. Я спросил: «Можно давать третий звонок?» Он повернулся ко мне и сосредоточенно задумался. Лицо его озарялось борьбой страстей, и думал он долго, но наконец решился. Поднял голову и с видом кидающегося в омут человека сказал: «Можно!..» Я пошел и дал третий звонок.

