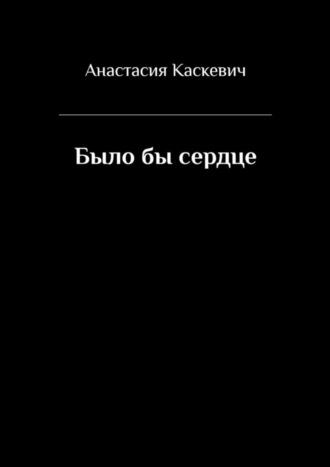
Полная версия
Было бы сердце
– Апрель, Москва
Я ехала из аэропорта по утопающей в вечернем солнце Москве. Пока меня не было – пока меня не стало за завтраком в ветреной южной Португалии – в Москву пришла весна. Было почти спокойно – как в затишье перед бурей.
Полночи я не могла уснуть: я чувствовала, что с моим организмом что-то не в порядке, но никак не могла понять, что именно меня беспокоит. Я знала, что за последние дни я нарыдалась вволю и налетала порядочно миль, и хотя температура ушла еще в Лиссабоне, я все же не вылечилась до конца. Но было что-то еще, какая-то темная тайна: проваливаясь под утро в сон, я чувствовала, будто что-то внутри меня набухает и вот-вот лопнет.
Я не видела выхода.
Мне было 19 лет, я была совсем одна той ночью и казалась себе таким ребенком. Всю ночь я рыдала при одной мысли о том, что мне предстоит сделать, но не видела другого выхода.
Через два дня я, ничего никому не рассказав, сделала аборт.
С того дня изо всех сил я старалась не делать из этого трагедии.
Я гнала от себя самые страшные мысли на свете: я очень боялась, что буду носить в себе всю жизнь нашего не родившегося ребенка.
Я старалась не делать никакой драмы – но на самом деле внутри меня той весной развернулась черная дыра, и я падала сама в себя, даже не пытаясь удержаться за мир снаружи.
Раз за разом во сне мне приходилось переживать одно и то же – как судорога внутри складывала гармошкой, как обезболивающее превратилось в леденцы на несколько бесконечных часов, и как я глотала эти леденцы вместе с болью не пережевывая – лишь бы все скорее кончилось и можно было снова дышать.
Я просыпалась по ночам, брела в ванную и умывалась холодной водой, стараясь держать глаза закрытыми: я перестала смотреться в зеркало, чтобы не давать себе никаких оценок.
В том не было никакой трагедии – в этом я очень настойчиво убеждала себя каждый день. Спустя пару месяцев я научилась не думать о том, что это мог быть мальчик. Похожий на тебя.
Позже я поняла, что это отчаянное желание не думать спасло мне тогда жизнь: той весной я стояла у самой черты, и только какой-то внутренний инстинкт самосохранения уберег меня от конца.
Так появилась единственная вещь, которую я не смогла тебе простить.
– Февраль, Вена
Мне было 18, я была на 3 курсе, и меня охватило безумное желание что-то делать. Я хваталась за любые предложения. Я могла не спать ночами, делая переводы с английского для Rolling Stones и расшифровки интервью для экономического журнала, я могла работать все выходные без отдыха и не отвечать на звонки друзей, я старалась извлечь пользу из каждой минуты жизни – но все это не помогало мне найти себя.
А потом появился ты: мы встречались в университете, а после несколько раз по работе – в дорогих ресторанах, где я всегда чувствовала себя ужасно неловко. Мы общались на «вы», но очень добро – я чувствовала, что ты очень хороший человек. Возможно, самый лучший из всех, кого я когда-либо встречала. Даже спустя 7 лет я все еще думала именно так. Очень жаль, что я ошиблась.
На третью встречу ты влетел в зал взъерошенный, с доброй улыбкой.
– Слушайте, дико опоздал, простите. Зато быстро вас нашел тут: попросил найти мне одинокую девушку – и официантка нашла, представляете?
Эти слова почему-то врезались мне в память. Вероятно, именно такое впечатление я произвела на тебя: одинокая.
На той встрече ты предложил мне заняться одним из своих европейских проектов: такие предложения редко делают студентам. И, откровенно говоря, ты явно переоценил мои возможности: я была недостаточно хороша для этой работы. Но тогда я не хотела думать об этом: я была так рада, что была уверена – все получится, я справлюсь.
Через три дня мы улетели в Вену: и в первую ночь прилета в гостинице в самом центре города все перевернулось.

Сразу из аэропорта мы поехали на встречу с венским коллекционером: тогда я обнаружила, что ни слова не понимаю из того, что мы обсуждали на встрече. Было ли дело в том, что у большинства был сильный немецкий акцент, или в том, что у меня давно не было практики английского – но я сидела в жутком стрессе, стараясь не делать лишних движений и не привлекать к себе внимания – лишь бы не произносить ни слова и не отвечать ни на один вопрос. Я так и не смогла избавиться от этого страха: уже гораздо позже, на других встречах, когда я уже привыкла к английской речи и акцентам любых языков, я все еще старалась не говорить – я стеснялась разговаривать при тебе на английском. Мне всегда казалось, что я скажу что-нибудь глупое или не найду нужных слов для достойного ответа.
После встречи мы поехали в гостиницу и разошлись по своим номерам, договорившись встретиться через час в холле и прогуляться до ресторана.
На улице стоял дикий холод: я помню, что потратила почти час на душ и горячий чай, а потом, опомнившись, пыталась одновременно высушить голову и накраситься. Ты ждал меня внизу в баре. Все было ново и незнакомо: оттого одновременно пугало и манило.
Мы отправились ужинать в твой любимый итальянский ресторан: я ела салат из зеленых листьев и авокадо, мы пили вино и постепенно перешли на «ты».
Когда мы вернулись в гостиницу, ты спросил у меня:
– Что будешь делать?
Я ответила, что не знаю, но спать пока не хочу.
В наших номерах была сквозная дверь – какая ирония: всю ночь она оставалась открытой. Мы заснули у меня в номере: у нас ничего не было, я даже не снимала пижаму – но именно эта ночь определила все на ближайшие два года. Утром я проснулась со странным ощущением: теперь я кому-то принадлежала.
Ты был единственным человеком, которого я безоговорочно выбрала.
У меня никогда не было сомнений в том, что я сделала правильный выбор – даже если я рыдала по ночам и думала, что нужно уходить – на самом деле уход от тебя был подобен смерти. Венская ночь поздней зимой снесла меня с ног – а после на утро я так уверенно встала рядом с тобой – и пожалуй, эта уверенность порой походила на осознанное отчаянье.
С того момента я училась молчать – так, чтобы зубы скрипели. Училась правильно здороваться и правильно разговаривать с тобой при незнакомых на «вы» – когда внутри мы были на «ты». Я училась признаваться себе, которая привыкла жить по идеальным правилам – что может быть одновременно и неправильно, и плохо, и невыносимо – но хорошо – до ужаса хорошо, одновременно.
Мы редко виделись: оттого я делала из каждой встречи событие, даже если это была общая встреча с коллегами, деловой ужин или пятиминутный разговор в офисе.
Довольно быстро я поняла, что принадлежать кому-то – значит перестать принадлежать себе: и это чувство, поразившее меня в Вене, стало мучительным.
Я начала бороться с ним.
Два месяца той весной я пыталась перебороть эту болезненную привязанность, сумасшедшее желание видеть человека каждую минуту – я пыталась отстоять себя, сохранить себя целой. Я сбегала из Москвы – но география ничего не решала: везде и всегда я чувствовала, что больше себе не принадлежу.
Я даже пыталась уйти, все закончить, прекратить это: но это было скорее смешно, чем серьезно. Казалось, той весной я тысячу раз порывалась уйти – и ты делал вид, будто отпустил меня, но я ту же тысячу и еще один чертов раз возвращалась, как полоумная, и ты делал вид, будто и не отпускал меня никуда. Очевидно, очень скоро ты понял, что на самом деле меньше всего на свете я хотела уйти от тебя – и привык.
Я изводила себя мыслями и подсела на бессонные ночи: я помню, как шла по вечернему Невскому и говорила себе что больше не выдержать – и город вторил мне так бойко приветливыми людьми, их вопросами, улыбками, шагами, барами – вторил мне той жизнью, от которой я отказывалась. Я говорила себе, что больше не выдержать этой чечетки на своей гордости, не выдержать мысли о том, что я недостаточно хороша, не выдержать ада, в который медленно оборачивается моя жизнь как в плащ. Тем вечером я почти смирилась с уходом от тебя: и больше всего я боялась проснуться наутро и понять, что на самом деле еще могу выдержать все это – лишь бы не потерять тебя. И так случилось – я проснулась и поняла, что готова выдержать еще миллион этих надрывов, миллион слез, миллион – лишь бы не сопротивляться больше тому, что я так отчаянно люблю.
События завязывались на мне мертвым узлом, и чем больше я пыталась разобраться в себе и освободиться, тем крепче становился узел – и после бессмысленных попыток отвоевать себя у тебя я сдалась.
В этой игре из нас двоих я изначально была пораженцем, но в конце концов я поняла: поражение расстраивало меня куда меньше, чем необходимость соревнования. До этого момента я не задумывалась об этом, однако наконец поняла: больше всего на свете я ненавидела соревноваться.
– Лето, Москва
Когда я смирилась с жизнью, которую выбрала, то перестала винить во всем себя – я убедила себя, что любовь снимает с нас всю вину и все обязательства перед другими людьми. Я повторяла себе каждый день – только двое людей понимают, что происходит между ними, и никто не в праве их осуждать. Но я ловила все больше осуждающих взглядов на нас и слышала все больше едких замечаний – иногда в лицо, но чаще за спиной. Так уж случилось: нас связывал университет, где ты читал моей группе лекции – и так уж случилось, что слухи поползли еще до первой Вены. Людей всегда очень забавляет атмосфера судебного разбирательства: и больше всего их раздражает то, что сильнее их – то, что им никогда не понять.
Но я ничего не боялась. Я зверела на глазах: я так безрассудно накидывалась на всех, кто смел проявить свое неудовольствие в нашу сторону, и была готова разбить лицо каждому из них. Я выстроила стену между внешним миром и нашим миром: и это отталкивало от меня многих друзей. Я потеряла почти всех: но одиночество никогда не пугало меня. Я вполне комфортно существовала в себе. Единственный человек, который был мне важен, был со мной – и ради него я без сомнений прощалась со всем, что прежде было дорого.
Ты сильно влиял на меня: любое твое замечание по поводу одежды или поведения я воспринимала как аксиому. Ты не любил яркие помады, считал чулки самой вульгарной вещью на свете и ненавидел шубы. Ты любил простые, естественные и женственные вещи. Я почти перестала краситься, покупала платья и начала отращивать волосы. Единственная вещь, которую я долго отстаивала, было сыроедство: я никак не могла смириться с тем, что мы часто ужинаем в стейк-ресторанах и «Скандинавии». И к осени я сдалась: когда мы улетели в Майами в октябре, я уже заказывала на ужин морепродукты.
Я сходила с сыроедства очень тяжело: в конце лета я поправилась на несколько килограмм и пришла в отчаянье. Тогда я начала курить – тогда же у меня началась булимия. Никто из близких так и не узнал об этом. Когда мы жили в отеле Вене или Люксембурге, по утрам ты убегал на встречи – и я завтракала в одиночестве. Это было самое ужасное: именно тогда меня нельзя было оставлять одну. Я ела сэндвичи с сыром и семгой, а через полчаса меня начинало тошнить – и я проводила ужасные минуты в ванной, ненавидя себя. Я не могла смотреть на себя в зеркало – мои пальцы опухали, сдавленные кольцами, которые прежде болтались и едва не падали, горло саднило, а чувство голода не покидало. Это был мой первый секрет от тебя – он заключался в том, что для себя я была ужасным человеком, а ты считал меня маленьким божеством. Я так любила тебя, что боялась показывать настоящую себя: к тому же, настоящей меня к тому времени уже не было. И я играла с тобой в себя идеальную: была сильной, легкой и понимающей. Это отбирало все мои силы, поэтому когда мы расставались, я была обесточена и слаба.
Странно, что ты так и не заметил во мне перемен: ни посеревшей кожи, ни перепадов настроения, ни пожелтевших зубов. Ты не заметил, что я почти перестала есть с тобой – зато без тебя срывалась на все подряд и все больше и больше прибавляла в весе.
Я хорошо помню момент, когда я, наконец, справилась с булимией: я прилетела на собрание компании в Вену из Нью-Йорка, где мы провели с тобой несколько дней. Вена встречала меня мягким сентябрьским солнцем и ласковыми улицами с начищенной брусчаткой. Но мне все было чуждо: единственное, что я чувствовала – это ужасную тоску оттого, что я увижу тебя лишь через несколько недель, оттого, что мы будем жить в разных гостиницах и оттого, что чувство ненужности захлестнуло меня как никогда прежде.
Наша венская команда была мне чужой: я не любила бывать в офисе, не любила говорить с людьми и предпочитала работать из номера или кафе. Казалось, весь мой офис понимал, что внутри меня нет места ни для кого, кроме тебя – и они мирились с этим.
В тот вечер, когда ты, наконец, прилетел, тебя разрывали на части встречи и совещания, наш директор, его партнеры, коллекционеры, галеристы и пресса. Разумеется, не было и речи о том, чтобы увидеть тебя: и я весь день притворялась, что все понимаю. Вечером, в номере гостиницы после командного ужина, когда меня снова выворачивало наизнанку, я, наконец, посмотрела в зеркало: я была жалкой и потерянной.
Я ужаснулась: мне не было оправдания.
Я написала тебе, что больше не могу быть в Вене и должна улететь в Москву – кажется, я оправдалась экзаменами в университете. Ты отправил за мной водителя той же ночью: я привела себя в порядок – как могла, и приехала в твой королевский номер в Рице. Мы выпили вина и быстро уснули: утром я проснулась без тебя. Первым делом я купила билет на ближайший рейс в Москву: затем попросила принести мне в номер сигарет и кофе. Выкурив пол пачки Мальборо и написав себе план на Москву, я приняла ванну и уехала в аэропорт.
Я больше никогда не позволяла себе быть такой слабой: я избавилась от булимии и снова перешла на сыроедство.
Ты так и не узнал о том, что я была больна: впрочем, позже между нами появился другой секрет посерьезнее.
– Май, Москва
После аборта, с середины апреля до середины мая я жила как в тумане: я на автомате ела, на автомате встречалась в друзьями и на автомате пила вино. Мы не виделись с тобой с Лиссабона, ты ни разу не написал мне и не позвонил, а я писала тебе каждый день по письму и не отправляла. Они оставались в черновиках.
Город наматывал на меня колючие солнечные лучи, скользкие струйки дождя, взгляды людей, превращая меня в разношерстный моток для рукоделия, а затем город шил мною целые дни, будто я иголка, и стежок за стежком, строчка за строчкой сшивал мной предметы и людей в мои и в чьи-то еще дни – запускал меня в метро а затем вытаскивал, запускал в офис и вытаскивал, запускал. Я выныривала наружу из этих городских тканей и лоскутков и снова кидалась туда: я знала, что если остановлюсь – больше ничего не сошью.
Я очень хотела тогда, чтобы ты знал – как я любила тебя больше жизни и еще сильнее, и я бы очень хотела, чтобы ты знал – как я рыдала каждый день и как сердце каждый день разрывалось на части, и как готова была сорваться, приехать, прилететь, уйти, отказаться ото всех и ото всего, лишь бы знать, что я все еще нужна тебе – и как под вечер смертельно уставала от этих мыслей и хотела лишь, чтобы это все поскорее закончилось. Только бы не чувствовать больше этой боли. Но я лишь обнулялась и уходила в минус – а тебя все не было.
Женя однажды сказала мне, что терпеть можно, только если любишь – и я взяла это за аксиому, потому что я любила так, как не дай Бог еще кому-то любить, ведь любить кого-то больше жизни страшно: а я вела себя так, будто у меня было 10 жизней, и я любила тебя больше всех этих жизней.
Ты молчал так, словно умер, очевидно понимая, что за два года научил меня брать себя в руки и справляться с внутриличностной войной без посторонней помощи и лишних разговоров. Таковы были правила игры.
– Май, Португалия
В начале мая мы собирались с Женей в Португалию – ничего страшнее нельзя было придумать. Войти в этот дом, пропитанный неразговором, ходить по этим узким португальским улочкам, где мы сначала были счастливы, а потом провалились в небытие, в хаос, в неопределенность – и даже то счастье, которое было у нас, казалось теперь каким-то ущербным и неправильным, половинчатым, искусственным – и я начинала думать, уж не придумала ли я себе его, не надумала ли я это счастье и правда ли все было так, как мне казалось прежде. И эти мысли резали меня на ремни, изводили до предела, выжимали. Но мы так долго планировали с Женей эту поездку и мечтали о ней, что у меня не хватило духа отменить ее. У меня не было сил сопротивляться течению жизни.
В ночь перед вылетом я говорила себе – с меня хватит и с меня довольно, говорила себе – все пройдет и все получится, но в 4 утра обнаружила себя на балконе исходящийся в дрожи от холода с пятой подряд сигаретой.
Я не хотела расстраивать Женю – и наконец было странно себе признаваться, но – мне до смерти хотелось зайти в этот дом, подняться на второй этаж в спальню и открыть шкаф, в котором висели твои рубашки, которые я развешивала в тот дождливый апрельский день. И вдохнуть твой запах. Наверное, я была сумасшедшей.
Мы с Женей прилетели к вечеру. Горячий воздух заполнял легкие, пахло терпкими цветами и океаном. Мы вышли из уютного южного аэропорта, сели в старенькое такси и поехали к вилле, и я так устала от переживаний, слез и бессонницы, что перестала себя мучить.
Дом был тем же – холодным, не обжитым, но залитым солнцем и как будто родным. Первым делом я побежала на второй этаж. Одежда в гардеробе спальни все еще хранила твой запах. Я села на пол и улыбнулась.
Португалия встретила нас теплым майским солнцем, спокойным океаном, безумно вкусной едой и приветливыми людьми. Мы взяли в аренду велосипеды сразу после прилета: каждое утро мы завтракали в местном кафе, доезжали на велосипедах до океана, проводили время до полудня на пляже, заказывали на обед графин холодной сангрии и потрясающе вкусные морепродукты, курили на парковке – затем ехали домой, принимали душ, читали книги, смотрели кино, чуть позже готовили на ужин ризотто, пасту или рыбу – а к вечеру возвращались на велосипедах на набережную, где в единственном открытом в еще не сезон клубе пили вино, танцевали под смешную музыку и ближе к утру возвращались на виллу спать.
В этом клубе в один из первых дней я встретила Олли.
Мы с Женей как обычно поужинали дома в саду, накинули свитера и поехали к пляжу. Женя отправилась в бар за вином – я осталась сидеть на веранде. В то время мне было еще неловко оставаться в людных местах в одиночестве: я старалась не смотреть по сторонам и утыкалась в телефон.
За соседним столом сидели британцы: их речь с характерным акцентом долетала до меня обрывками – я старалась не вслушиваться в их разговор.
Женя вернулась через пару минут, заметив, что красивый подлец за соседним столиком строит ей глазки.
Мы вместе с ней посмеялись над этим – затем британцы подошли к нам и спросили, не против ли мы, если они присоединятся к нам. Мы были не против.
Через пару часов Женя обнаружила меня внутри клуба: мы с Олли целовались под the Killers. Вино ударило мне в голову, и самой большой проблемой в эту минуту казалась моя красная помада, которая размазывалась по всему лицу. О том, что я предаю любимого человека, я не подумала даже наутро, когда мы всей компанией встретили рассвет на пляже. В то же утро – какая ирония – по дороге домой я получила от тебя сообщение. Мы съезжали на велосипедах с пригорка, когда я услышала звук оповещения на телефоне. Недолго думая я отпустила руль и потянулась за телефоном, и за пару секунд до падения успела прочитать сообщение. «Я очень жду тебя в Москве».
Когда Женя обернулась, я сидела на дороге с разбитыми в кровь коленями и пересматривала сообщение раз за разом, словно боялась, что оно сейчас исчезнет и все окажется нелепой галлюцинацией. Я не чувствовала боли – только теплая кровь щекотала ноги, сползая каплями к лодыжкам. Я наконец знала, что мы увидимся, и с того дня ждала возвращения в Москву, не радуясь больше океану, солнцу и неспешной жизни.
– Москва
После того, как мы увиделись с тобой в Москве после нашей с Женей поездки, жизнь почти вернулась в старое русло. Почти – потому что каждый из нас по отдельности пережил то, о чем мы никогда не говорили друг другу. Для меня так и осталось тайной, что происходило в твоей жизни все это время, а ты не спрашивал, что нового случилось у меня. Я была рада, что ты не задавал этот вопрос. Случилось слишком много – и ничего, что я могла бы тебе рассказать.
Ты сказал мне, что я повзрослела за то время – и я сначала обрадовалась, возгордилась этой переменой, этой взрослостью, но позже поняла, что этих слов мне было недостаточно и это вовсе не то, что я хотела услышать от тебя в первую после разрыва встречу.
Мы снова стали проводить вечера вместе – но я больше не верила тебе так безоговорочно, как прежде. Ты больше не был моим богом – и оттого я не любила тебя меньше, просто любила по-другому, и эта новая любовь уже не была такой чистой. Мне больше нечем было защитить нас перед внешним миром: я знала, что ты способен обидеть меня и причинить мне зло, и потому наш мир начал рушиться. Медленно, понемногу мы приходили в упадок.
Я помнила, что когда-то любила себя и когда-то была счастлива в себе, а той весной я бежала из себя как из разрушенного дома куда-нибудь подальше, поскорее к людям, чтобы сидеть с ними и забывать, что нужно возвращаться, ведь к себе всегда нужно возвращаться, в себя всегда нужно возвращаться.
Я вела себя с тобой так, будто ты прочел три десятка не отправленных писем, и вела себя так подразумевая, что ты понял или хотя бы осведомлен о том, что в них.
О том что я всегда буду ждать, лишь бы ты не отпустил, и о том, как была готова на все, до тех пор, пока ты не начал душить меня стеной молчания, неразговором, вакуумом, о том, что не могла простить тебе этого, о том как трескалась внутри от щиколоток до макушки и как продолжала ждать, даже когда ты сказал «не жди». Как каждую ночь задавалась вопросом – знаешь ли ты, что такое не ждать? Что такое – никому и ничему не принадлежать, быть чужаком людям и самой себе?
Какой непростительной глупостью то была с моей стороны – для тебя я всего лишь повзрослела, а внутри меня тем временем была гражданская война и не осталось живого места, кроме этой больной любви к тебе.
Иногда по ночам, когда я просыпалась от очередного кошмара, я думала о том, что мне стоит обратиться к врачу: я была совсем больна тобой и измучена этими жуткими снами, в которых моя мама говорит тебе «вам стоит уйти прямо сейчас», в которых твоя жена дает мне пощечину, в которых ты умираешь раз за разом.
Я чувствовала, что наш мир рушится, но у меня не хватало сил признаться себе в этом. Поэтому я продолжала собирать вещи в Португалию и планировать отъезд.
Мне нужно было то, что ты уже пережил много лет назад, и, возможно, не раз. Но в силу молодости и максимализма я не понимала, что не буду с тобой счастлива. Я была уверена, что это только сейчас тяжко – но где-то дальше будет легче, и все как-нибудь решится, и мы станем самыми счастливыми. Я и ты – и больше никто. Не навсегда, конечно. Скорее, конечно, не навсегда.
Я вцепилась в тебя, как в спасательный круг, поскольку только ты имел смысл в этой хаотичной жизни, и мне было совершенно не жаль отказываться от всего и всех ради того только, чтобы ждать тебя вечерами – даже если ты не приходил, и я рыдала потом всю ночь, как маленький ребёнок, испугавшийся до слез темноты.
Все начало стремительно рушиться уже по дороге в Ф: правда, я поняла это многим позже, а тогда – тогда мне казалось, что мы можем все исправить, что все наладится, что мы справимся и будем счастливы, пускай даже не вечно. Скорее даже – конечно, не вечно.
Но мы были обречены.
Я больше не была с тобой счастлива – напротив, каждым жестом и словом ты делал меня несчастной, а несчастье делало меня некрасивой. Наверное, уже тогда ты все для себя решил – решил, как будет правильно и как будет лучше для всех – и уже тогда не особенно заботился о том, как сильно ранит меня твоя отстраненность.
Мне казалось, что все наши 2 года я мысленно готовила себя к финишу – но вполне логично оказалось, что к тому невозможно быть готовой так же, как человек в 20 лет не может быть готов к смерти.
– Португалия
Я проснулась в темном доме, в холодной кровати, и твоя одежда все еще лежала на полу, но тебя не было.
Я искала тебя по всему дому, но ты уехал: оставил меня спящей и не попрощался.
Я не знала, когда смогу увидеть тебя в следующий раз, и это стало ударом для меня. Я знала, что ты уедешь, но как обычно, не была к этому готова. Я вышла из дома на улицу, села в твою машину, включила Evanescence на всю округу, закурила и расплакалась.

