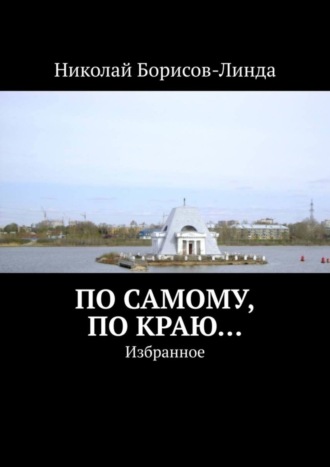
Полная версия
По самому, по краю… Избранное
Тагир сделал два глотка:
– Хм… А ничего напиток-то, ядрён, – и приложился долго, больше половины кружки.
– Что, значит, ничего? Обижаешь, сосед. Это, если можно так выразиться, «наследие предков», будь оно неладно. А ты – «ничего». – Михаил театрально развел руками. И с непонятной для Тагира злостью продолжил:
– Так вот я и говорю, Монтека с Капулетой, эти два раздолбая детей своих загубили, а я вот не знаю, во что моя глупость выйдет.
– Какая такая глупость? – Тагир допил содержимое кружки и поставил её на скамью. Не торопясь закурил. – Что с тобой, Михаил? Небритый и глаза красные, не выспался? Темнишь, крутишь. А ну, давай рассказывай.
– Не темню я, чего мне темнить, да и крутить резона нет… Я только говорю, что мы с тобой два старых болвана, два осла, два олуха царя небесного…
Тагир дважды глубоко затянулся и напряженно прислушался. Было видно, что он Михаила не слушает, а всё его внимание сосредоточено на чем-то другом. Он с беспокойством посмотрел в сторону своего дома.
– Знаешь, Михаил, я, наверное, пойду. – Он как-то судорожно затушил окурок. – Вспомнил, кое-что по дому ещё не сделал. Надо за светло успеть…
– Дела. За светло успеть, – передразнил его Михаил. – То просишь рассказать про заветное слово, а то срываешься с места, что конь не объезженный. Сначала до стойла добежать надо. – Михаил взял кружку и заглянул в неё. – Вот ты сам мне завтра и расскажешь, про заветное слово. Если, конечно, захочешь…
– Что расскажешь? – Тагир выровнял спину. – Что-то совсем не пойму я тебя…
– Да ты не выпячивай грудь, сосед, что тот петух. Не выпячивай. Не поможет. Верный способ, дедовский. – Михаил махнул рукой. – Теперь никакая философия не поможет. Теперь в нашем деле главное скорость, но и шибко широко не шагать, а то того…
– Что того? – Тагир в беспокойстве встал и в нерешительности затоптался на месте, то поглядывая в сторону дома, то на калитку Михаила.
Михаил смотрел на Тагира с нескрываемым интересом:
– Ну, коль собрался, так иди, если не можешь полчаса беседе уделить. Не поймешь тебя… Какой-то ты странный сегодня, хотя и бритый.
– Ладно, пошёл я, – Тагир крупно зашагал в сторону дома. Где-то на середине пути он как-то нехорошо, неестественно побежал, словно что-то бережно неся и боясь уронить. В десяти метрах от дома неожиданно остановился в странной позе с растопыренными ногами. Несколько секунд стоял, словно, соображая, что же произошло. Повернулся и погрозил Михаилу кулаком.
– Завтра, завтра приходи, – прокричал ему на это Михаил. – Завтра и расскажешь. Знать хорошо пробило… верный способ.
На душе у него было пусто и гадостно. Он посидел с минуту тупо уставившись в землю. Затем тяжело встал, взял пивную кружку и вдруг со страшной силой ахнул её об мощеную дорожку так, что стекло разлетелось, засверкав разноцветным бисером.
У Анвара и Татьяны сложилась у каждого своя жизнь. Они выучились, получили образование, завели семьи, детей. И разъехались кто куда.
Лишь однажды судьба свела их после того случая. Встретившись случайно, они, что два пылающих факела, пронеслись мимо. Так свежи были воспоминания той банной ночи.
Михаил и Тагир состарились. Иногда, как прежде, сидят на скамейке, покуривая. Но про дедовский способ не вспоминают. Да и зачем.
Индульгенция
«…яко несть человек, иже жив будет и не согрешит».
– Ну что за народ, придурки и только… как зима, так траншеи копать. Лета им, видите ли, мало, – охранник Фролов ввалился в сторожку, затащив за собой морозный воздух и валенки, облепленные снегом. Только что он, подскользнувшись, едва не упал в свежевырытую траншею, на дне которой чернели две трубы. – Надо же, а… Чуть глубину ямы не измерил. Аж пот прошиб от страха. Ноги, прям, ватные стали.
– А чё тебе бояться, хрен старый, ты своё пожил. Небось, дерьма достаточно развёз по белому свету? – Навстречу ему поднялся его напарник Никонов.
– Да ты сам смотри, туда не свались, мамука белобрысая.
– Дверь закрой, не май месяц.
– Да и я про то же, – Фролов прикрыл дверь и, кряхтя, стал очищать валенки от снега.
– Летом что делали? Небось, лапу сосали. А здесь разворошили землю, парит родимая, словно дышит… Мороз вон тридцать пять… Ладно бы котлован там, яму, а здесь вдоль всего забора, метров сто. Как людям ходить? Того и гляди на дне окажешься и не выберешься… Башку точно сломаешь.
– Ну-ну, тебя не спросили… Можно ли нам, господин Фролов, с-сдес-ся ямку копнуть, али в другом месте прикажете… Сам вон снег притащил, а мог и в коридоре с валенок стряхнуть. Так ведь нет, заволокся как был. А туда же, критиковать… Собакам что-нибудь принёс или опять их на подножный корм пустишь? Летом ладно, зима на улице, глаза разуй… ба-арин.
– Да ладно тебе гундеть, что баба та сварливая. С тобой ведь ни о чем нельзя поговорить, всё у тебя против. Принёс, принёс. Целый пакет костей Люська наложила, холодец варила, – Фролов в досаде бросил веник к печурке. – Давай лучше сменный журнал, да и чай вскипятил, а то, небось, и воды-то нет? Ты ведь только на готовенькое любишь.
– А ты не любишь? Дрова в свою смену спалил? Спалил! А заготавливать кто будет за тебя? Пушкин, что ли? Или Алексей Максимыч?
– Какой Алексей Максимыч? – Фролов снял полушубок и, кряхтя, повесил на вешалку.
– Какой такой? А тот, которым Горький называется, или я за тебя колоть их должен? – Никонов поправил очки. – Вот, Фролов, сколько я тебя помню и знаю, ты как был турбулентен, так им и остался. А ещё на барина откликаешься.
– Чё, – Фролов скосил на него глаза, – какой я?
– Турбулентный, – Никонов усмехнулся чему-то своему. – То есть ветреный и не серьёзный. На тебя ведь ни в чём нельзя положиться. – Он переложил книгу из одной руки в другую и стал легонько ею стучать по ладони.
– Снег не убираешь, а если начал убирать, то сломал лопату. Вот за всё, что ты ни берёшься, всё получается, как в том анекдоте… через проход, задний. И вся твоя видимая серьёзность и важность есть сплошная курьёзность. – Никонов вопросительно посмотрел на Фролова:
– Вот скажи, какого ты чёрта припёрся за четыре часа до принятия смены, а? Тебе что, дома делать нечего или Люська из дому гонит? Или ты думаешь, что мне на тебя приятно смотреть? Ты ведь надоел мне, своими бестолковыми разговорами, как та горькая редька. Глаза бы мои на тебя не смотрели…
– Да не кипятись ты, – Фролов ощерился своими вставленными металлическими зубами. – Завтра, как-никак, а наш праздник… День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Аль запамятовал, мамука белобрысая. А я того… и белоголовую прихватил. На халявку-то оно, как… и уксус сладкий, а?
От услышанного Никонов расплылся в слащавой улыбке:
– Фролов, дорогой ты мой человек, неужто сподобился, иль на тебя божья благодать снизошла, что ты свою скоромную денежку потратил на этот чертовски благородный напиток? – Он бросил книгу на стол, снял очки и, сильно прищурившись, стал рассматривать Фролова.
– А я ведь сегодня весь день одним местом чуял, что что-то зудит в нём, но это, наверное, думал, к перемене погоды, ан нет, это оказалось к выпивке. У меня и баночка с огурчиками по такому случаю припасена. Ай да Фролов! Ай да мерин облезлый, надо же так подгадать, – и он кинулся доставать банку с огурцами и ещё что-то.
Фролов поставил авоську на стол, вытащил из неё бутылку водки, шмат сала, завёрнутый в газету, и ещё какие-то свёртки.
Никонов тоже засуетился и по всем его действиям, жестам чувствовалось, что подготовка в выпивке доставляет ему превеликое удовольствие.
Был он небольшого роста, суховат и с редкими седыми волосами на голове. Его взгляд с хитринкой таил в себе желчь, если не скажем больше, ненависть. Смотря на собеседника, он словно сверлил его своим взглядом, как бы говорил: «Вижу я тебя, голубь сизый, насквозь, что бы ты здесь мне ни заливал». Часто говоривший с ним неожиданно спотыкался в своей речи под таким взглядом и старался прекратить разговор. Ему такие моменты доставляли удовольствие.
И был Никонов окаянный бабник. Дожив до шестидесяти пяти лет, он так и не обзавёлся семьёй. В разговорах, если дело касалось детей, он ехидно улыбался и говорил:
– А у меня почитай в каждой области и республике Союза дитё есть, – и хихикал как-то в грудь, словно захлёбывался от восторга. – Иные отцы и не знают, чьё дитё воспитывают, а оно моё. – И сейчас он был готов в любой момент охмурить иную молодуху и подмять её под себя. Вот так и жил, в удовольствие себе: ни о чём не задумываясь и не жалея.
Фролов был совершенно другим и по внешнему виду, и по душевным качествам. Высок ростом, некогда красив лицом, прямой греческий нос и крупные чувствительные губы, а также густая шевелюра и осанка, благородная, важная. В юности его, кто в шутку, а кто и всерьёз, звали Боярин. На что Никонов язвил: «Ты, Фролов, не князь, а ходишь, что кровей благородных. Не по рангу дадена тебе вальяжность, ошиблись на небесах. Это у тебя от дворецких досталось, или дедушка швейцаром был в каком-то ресторане или заведении». Фролов, улыбаясь, отмалчивался или говорил безобидно: «Мамука белобрысая, ты и есть мамука».
Жизнь, то ли судьба зачем-то свела их вместе, по молодости жили они в одном доме, работали на одном заводе, но Никонов уехал искать лучшей доли, на какое-то время попал в тюрьму и переехал на родину только перед самой пенсией.
Фролов тоже временами отрывался от родного дома в поисках длинного рубля, но вернувшись последний раз с лесоповала резюмировал жене: «Чем длиньше рубль, тем короче жизнь», – и больше из города ни ногой.
И вот, прожив жизнь, они доживали её, два охранника-пенсионера сторожили завод, а можно сказать, то, что от него осталось. Вспоминали молодость, иногда поругивались, но какая-то непонятная сила влекла их друг к другу.
Некогда завод железобетонных изделий своими достижениями гремел по всей округе и за него завязалась борьба местных предприимчивых людей. В результате завод был обанкрочен, люди разбрелись в поисках лучшей доли, но поскольку его ещё не до конца растащили, то была поставлена охрана.
Дежурили они сутками в количестве четырёх человек, зарплату получали мизерную, зато вовремя и без всяких бумажек. Хозяева менялись чуть ли не каждые три-четыре месяца, а этот последний хорёк, как называл его Никонов, зацепился крепко и обещал по весне запустить производство.
Территория завода была небольшой, для её обхода вполне хватало и двадцати минут. Работа не пыльная, не тяжелая, как раз для пенсионеров.
Стол для торжества собрали отменный, Никонов любил такие минуты ожидания застолья, или как он говорил «минуты душевного безмолвия». У него всегда в таких случаях поднималось настроение, глаза теплели и он становился неудержим в своём словоблудии.
Опустившись на корточки перед печкой, он открыл дверцу и закинул в жаркое её нутро несколько совков угля. И здесь его хитрый глаз уловил, как Фролов, вынув что-то из кармана полушубка, сунул в свой валенок.
– Это что вы, милейший, изволили от меня прятать? Нехорошо, ой, нехорошо. – Он с нескрываемым любопытством подошел к валенкам Фролова, которые стояли под повешенным полушубком. Они всегда, когда приходили на смену, в сторожке валенки снимали, и только выходя с проверкой территории, надевали их. И словно та сорока, или же изображая её, заглянул внутрь валенка.
– Да ничего особенного, – Фролов с досады хлопнул себя по ляжкам. – Ну, востёр же ты, Никонов. Ну, как увидел, спиной же сидел?
– А я срамным местом выпивку за сто шагов чую. Доставай, доставай, что, заныкать от лучшего друга надумал. – И видя как Фролов извлекает из валенка фляжку, не нарочито сглотнул слюну. Глаза его расширились:
– Чтобы мне околеть на этом самом месте, спирт? Он родненький? – Фролов обречённо мотнул головой: – Да, технический.
– Прощаю, Фролов, я тебе прощаю всё: и сломанную лопату, и неубранный снег, и дрова, которые ты спалил, и всё и вся, и присно и во веки веков. Аминь. За стол. За стол. Праздник не имеет привычки ждать, он приходит и уходит. Это только мы остаёмся. И чем раньше мы сядем за стол, тем дольше мы с ним. А беленькую убери, убери, не её сегодня день. Она на сладкое. – Он принялся разливать из фляжки:
– Надо же, пол-литра чистейшего «шила» хотел заныкать… а? Ещё друг называется. Фролов, я махну неразбавленный, а ты как?
На что Фролов грустно ответил:
– Нет, я так не могу. У меня потом дня три горло першит. Я разбавлю. – Он взял стакан со спиртом, налил воды и почувствовал, как стакан в руках потеплел, и увидел, как в нём закрутились водяные вихри.
– Нет, ты посмотри, какая реакция? – Он показал стакан Никонову. – А в желудке как?
Никонов усмехнулся:
– Как? Как? А вот так, – и выпил налитое одним духом. Зажмурился, задержал дыхание и выдохнул: – Хо-ро-шо!
Фролов пил долго. Часть спирта текла у него по подбородку и капала на рубаху. Так и не допив до конца, он поставил стакан, замотал головой и быстро задышал:
– Недоразбавил. Крепкий чёрт, – и полез за огурцом.
Печка дышала жаром. Её верхняя, чугунная, часть раскалилась до красна, и в сторожке стало душно.
Они опорожнили больше половины фляги и уже крепко захмелели. В разговоре Никонов оседлал своего любимого конька, женскую тему. Он смотрел на Фролова пьяными глазами, в которых уже не было ни злости, ни хитрости, ни чего-либо ещё, а была одна лишь только пьяность. А навстречу ему смотрели точно такие же глаза, ну ничуть не лучше, если не считать того, что они были чуточку потрезвее.
– Фролов, вот ты мне скажи, как мужик мужику, скольких ты баб имел? – Он подпёр подбородок рукой и медленно что-то жевал. – Ты, так сказать, итоги своей жизни подбивал? Зачем жил на белом свете?
– Не-а, – Фролов смотрел на него осоловелым взглядом. – А зачем?
– Чего зачем?
– Итоги моей жизни, – он сделал паузу. – Трое детей: два сына и доченька Катюша.
– Да ты о чём, Фролов? Я тебя спрашиваю, ты подсчитывал скольких баб имел, а он мне про спиногрызов. У меня их по Союзу…
– А зачем?
– Чего зачем? – Никонов перестал жевать и, убрав руку со стола, уставился на собеседника.
– Ну, зачем много баб иметь? У меня Люська и мне хватает. – На что Никонов в нетерпении заёрзал на стуле.
– Ты чё, Фролов, хитришь. Может, скажешь, у тебя никого кроме Люськи не было.
– Нет, по молодости были. Так, глупость одна, а как женился… не-а. Да и морока с ними. Они же чужие.
– А Люська тебе родная, да? Кровиночка. Дурак ты, Фролов, бесповоротный. Я вот как-то начал подсчитывать, скольких
я имел, после ста сбился со счёта. Надо как-нибудь сесть с авторучкой и тетрадью. Подвести, так сказать, сальдо.
– Зачем?
– Н-нда, хорошая у тебя жена, Фролов, ой, хорошая. Смотри, что тебе на работу собрала, – он хитро улыбнулся. – Заботливая. А затем, что все бабы сучки. Надо только знать, когда у неё чёс,
и всё, и она твоя.
– Не понял, чёс? – Фролов замер.
– Да, да. У сучек течка, а у баб чёс. Вот, как ты узнаешь, когда у неё чёс, она твоя. Главное, на тот момент подход к ней найти. Ей ведь в это время всё равно, кто на ней, главное, чтоб… там… что-то было. – Никонов, довольный от сказанного, откинулся на спинку стула. – А ты прожил жизнь и об этом ничего не знаешь?
– Зачем? – Фролов, расстегнул рубаху. – Мне это не надо. Я хочу по-человечески жить, а то течка, чёс, это по твоей… по кобелиной части. Мне это не надо.
– А я что, по-твоему, не человек? – во взгляде Никонова что-то произошло. Он тяжело оторвался от стула, разлил из фляги спирт:
– Да, Фролов, хорошая у тебя Люська. Были у меня и такие, как твоя, были даже и получше. Знаешь, одна была, – он крякнул от наплывших воспоминаний. – Катериной звали, так она, у-у-у, в постели заводная была, что твоя швейная машинка. А другая была, вот убей, не помню как звали, майор милиции. Я её ласково «ментулечкой» называл, от этого имени её и не помню.
Так я её, свою ментулечку, заставлял в постели китель надевать, со всеми регалиями. Представляешь, Фролов, сиськи и звёзды на погонах. В её лице я всю нашу родимую милицию имел. Очень сильное получал удовольствие. Но лучшее, что я тебе скажу, Фролов, это когда ты жену своего лютого врага имеешь, по её согласию… Эх! С-са! Знал бы ты, Фролов, какие у меня бабы были…
– Так уж и были? У тебя, Никонов, всё больше «прости, господи» были. С тобой ведь порядочная бабёнка не пойдёт. Ты ведь хлыщ, мамука белобрысая. – Фролов уже сильно опьянел. Спирт и жара медленно, но обоюдно делали своё дело. У него от любых сказанных Никоновым слов под сердцем словно закипала кровь. И ему всё чаще стала приходить в голову одна мысль: «Может врезать этому мамуке промеж глаз?»
– Ты хочешь сказать, Фролов, что у меня были одни проститутки, а порядочных баб не было?.. Ты это хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что… он… у меня на помойке вырос? – И не чокаясь с Фроловым, стоя опрокинул содержимое стакана в себя. Зло сел. Сильно засопел.
– Ты пей, евнух хренов. А насчёт бабской порядочности это ты погорячился. Как пить дать, погорячился. Запомни, Фролов, – он откусил, оторвав зубами сало, зачавкал открытым ртом. – Ты запомни, Фролов, одну главную житейскую истину: «Порядочных баб не бывает». Хоть раз, а замужняя баба под чужим мужиком, но побывает. Запомни, хоть раз, но побывает, а может и не раз. Это кому как понравится. Баба она создана для чего? – Он уставился на Фролова. Тот после выпитого усиленно закусывал.
– Ты это кого спрашиваешь? – Фролов перестал жевать.—Меня, что ли?
Никонов в пьяном недоумении огляделся вокруг:
– А кого же ещё? – И икнул. – Мы пока здесь вдвоём.
– А-а, – Фролов прожевал. – Наверное, рожать детей… чтоб не мужику это доставалось. А? А моя Люська порядочная. – Он опять зажевал.
Никонов вытер ладонью губы, развезя оставленный от сала жир так, что он заблестел на свету. И набычась, глядя из подлобья, выдавил:
– Я же тебе говорю, что порядочных баб в природе нет. И… и… твоя… Люська… не исключение.
– Пошёл ты, мамука белобрысая.
– Пошёл, куда пошёл. Да я, если хочешь знать, и твою… Люську… имел…
– Что? – И Фролов, как сидел, не вставая, ударил Никонова в лицо. Да так, что тот, перевернувшись вместе со стулом несколько раз, остановился только у стены. – Что ты сказал? Люську? Ты мою Люську? Убью, гада! – Он вскочил и кинулся на Никонова, нога зацепилась за ножку стула, и он упал на пол лицом вниз. Никонов, извернувшись, выскочил в коридор и подпёр дверь ломом.
– Всё, тебе конец. Убью гада. – Фролов несколько раз пытался встать, но выпитое не давало ему это сделать, его словно кто-то подталкивал, и он падал. В конце концов ему удалось добраться до двери.
Дверь была заперта. Матерясь, Фролов бросался на неё всем телом.
– Успокойся, Фролов. Ты чё кипятишься? Ну, было и прошло. Ты сам посуди, тогда дело молодое. У бабы чёс, а ты на заработках, ну и что прикажешь бабе делать? На твою фотокарточку молиться, а? Да и как на зоне говорят: «один раз не пидорас». Когда это было, сорок лет прошло. – Никонов прислушался.
– Фролов, кончай дурить. Всего-то один раз и было. – Он, прижав ухо к двери, прислушался. Из-за дверей слышалось возбуждённое сипение.
– Всё, давай, мир, мы же с тобой мужики. Выдай мне индульгенцию за грех и на том забудем.
– Забудем, говоришь? Но ведь ты помнишь и, наверное, кому-то рассказывал. У тебя не язык, а помело. Открой дверь лучше по-хорошему. Не сегодня, завтра всё равно убью тебя. Пачкун блудливый. – Он ещё несколько раз ударился всем телом о дверь, но уже как-то неубедительно.
– Фролов, дай мне мой полушубок и я уйду. Замёрзаю. Мороз, наверное, уже под сорок.
– Ну и замерзай. Я тебя на улицу не выгонял, – Фролов, покачиваясь, тяжело направился к столу. По дороге он поднял свой стул и грузно на него опустился, уставившись в темное промёрзлое окно. Отчего-то вспомнилось, как они с Люськой познакомились на танцах в заводском клубе. И как он её провожал до калитки дома, боясь даже случайно прикоснуться к её руке. Эти воспоминания были так явственны и реальны, что он даже вздрогнул, когда вдруг увидел своё отражение в чёрном стекле.
Дверь заскрипела и в возникшую щель просунулась белая голова Никонова. По всему лицу у него была развезена кровь.
– Ну, чё, Фролов, мир?
Фролов равнодушно посмотрел в его сторону:
– Забирай свои шмотки и иди.
– Да, да. Конечно, – Никонов засуетился, влезая в свои валенки, натягивая на себя полушубок. Покидав какое-то тряпьё в сумку, он выжидательно уставился на Фролова: – Ну, чё, может, выпьем за мир? Или, того, на посошок?
Фролов сгрёб со стола нож и процедил сквозь зубы:
– Уходи, Никонов.
– Всё, всё. Я пошёл. Счастливо отдежурить. – Дверь заскрипела и закрылась.
Фролов ещё долго сидел, уставившись в окно. Так долго, что, прогорев, остыла печь и в сторожке стало зябко. Отчего-то завыли собаки. Мысли его беспорядочно скакали по памяти, они были уподоблены брошенному на произвол судьбы небольшому судёнышку, которого гоняют ветер и волны по просторам океана без цели и направлений. Наконец и ему стало холодно.
Он устало встал. Смахнул всё со стола на газету, достал пакет с костями и, натянув на голову шапку, вышел на улицу. Холодный воздух ударил в легкие освежающе, так что он едва не задохнулся от морозности. Купол неба был усыпан яркими и такими близкими звёздами, что он невольно зажмурился. Фролов с минуту постоял, дыша и любуясь небом, но, почувствовав на щеках щипание мороза, поспешил к собакам. Те отчего-то волновались, поскуливали.
– Ну что вы? Вот, согрейтесь. Гостинец вам, гостинец, – но собаки к пище не притронулись. Одна из них, Чернушка, раз за разом лаяла и металась по вольеру. Фролов в тревоге стал озираться по сторонам. И вдруг ему то ли почудилось, а то ли послышалось какое-то мычание или блеяние. Он, приоткрыв дверцу, выпустил Чернушку и, скомандовав: «рядом», направился к сторожке.
Одевшись, он вышел, Чернушка буквально потащила его к траншее. Пройдя метров двадцать по тропинке, Фролов оказался у того самого места, где чуть было не оказался на её дне. Подойдя к самому краю, он заглянул на дно траншеи. Там кто-то был.
– Эй, кто там! Эй, откликнись! – Фролов прислушался и вглядывался в серость дна.
– Я это… Я… Никонов. Всё… не могу уже… Фролов, вытащи меня… Нога… Ногу… сломал… вы-ытащи, – и он не то завыл, не то заплакал. – Фролов, миленький, вы-ы-тащи… замерзаю…
– Кто? Кто? Никонов? А-а. Как же ты так? Ну, держись. Сейчас мы с Чернушкой тебя достанем. Сейчас. Мигом. Да, Чернушка? – Та завиляла хвостом и несколько раз тявкнула, словно подгоняя. – Мамука, ты и есть, мамука. Пошли Чернушка, пошли.
Подойдя к вольеру, он завёл в него собаку. Постояв несколько минут, медленно побрёл к сторожке. Зайдя, разделся, выгреб из печки всю золу, нарезал щепу. И когда в печи затрещали в огне поленья, он с полсовка подкинул угля. И уже через час печь вновь раскалилась докрасна и в сторожке стало жарко, да так, что Фролов снял с себя свитер.
Убрав всё со стола, он тщательно его протёр влажной тряпкой. Затем, не торопясь, перемыл всю посуду и поставил сушиться здесь же подле печки. Когда в сторожке был наведён порядок, Фролов налил кружку чая и долго пил, обжигаясь.
И вдруг, словно что-то вспомнив, усмехнулся:
– Индульгенция… надо же… ин-дуль-ген-ция. – Оделся и вышел к собакам. Те лежали смирно на соломе и прижавшись друг к другу.
– Чернушка, пошли территорию обойдём. Конечно, какой дурак в такой мороз придёт сюда. Но служба есть служба. – И они, неторопливо побрели вдоль забора по натоптанной тропинке, смотря по сторонам, нет ли каких посторонних следов.
Когда обход заканчивался, с неба тихо и плавно запарили снежинки. Сначала робко, затем смелее и смелее. Заходя в сторожку, Фролов оглянулся в ту сторону, где была траншея. В коридоре он не отряхнулся и не сбил с ног снег, а так, как был, и зашел в сторожку. Повесив полушубок и сняв валенки, он завалился на кровать.
Сменщик пришел вовремя и навеселе. Праздник есть праздник.
– Кузьмич, а ты знаешь, что такое индульгенция? – Фролов с любопытством ожидал ответа.
– Да, это что-то у католиков с грехами связано. А тебе зачем?
– Тут один знакомый у меня эту саму индульгенцию просил.
– Ну и как? Ты же не поп, – Кузьмич засмеялся. – Что только люди не придумают.
– И я про то же, Кузьмич, был бы я поп, то другое дело. А я простой смертный, какая там нахрен индульгенция. – Он достал белоголовую. – Ну что, Кузьмич, наш праздник?
Никонова вытащили из траншеи только через неделю. Следствие пришло к тому, что шёл пьяный, свалился в траншею и замёрз. Похоронили его тихо и незаметно.
Фролов прожил ещё семь лет. На похоронах было много народа, как молодых, так и старых. У гроба его старуха Люська сильно убивалась и просила: «Прости, Сашенька, прости меня нерадивую».



