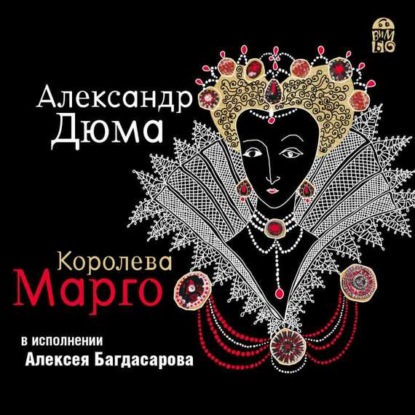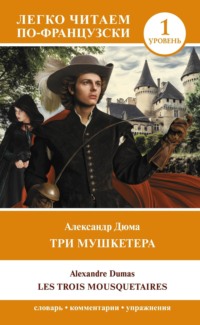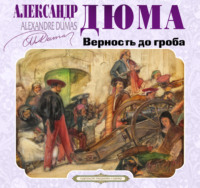полная версия
полная версияКоролева Марго
– Ого! Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы! – шептал Коконнас. – Что это значит?
– Марк-Аннибал Коконнас, на колени! – произнес чей-то голос, заставивший Коконнаса поднять голову. – Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор.
Инстинктивно все существо Коконнаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно, а главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил.
Голос продолжал:
– «Приговор суда, вынесенный в Венсенской крепости по делу Марка-Аннибала де Коконнас, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно: в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу…»
На все эти обвинения Коконнас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник.
Судья продолжал:
– «Принимая все вышеизложенное во внимание, суд постановил: препроводить означенного Марка-Аннибала де Коконнас из тюрьмы на площадь Сен-Жан-ан-Грев и там обезглавить, имущество его конфисковать, его строевые леса срубить до высоты в шесть футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказание…»
– Что касается моей головы, – сказал Коконнас, – то, думается, ее действительно отрубят, потому что она – во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, то ручаюсь, что ни пилам, ни киркам христианнейшего королевства там делать будет нечего!
– Молчать! – приказал судья и стал продолжать чтение: – «Сверх того, означенный Коконнас…»
– Как? – прервал его Коконнас. – И, срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать? О, это уж чересчур сурово.
– Нет, месье, – ответил председатель, – не после, а до… – И продолжал: – «Сверх того, означенный Коконнас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в десять клиньев».
Коконнас вскочил на ноги, сверкая глазами.
– Зачем?! – воскликнул он, не найдя, кроме этого наивного вопроса, других слов, чтобы выразить целый сонм мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу.
Действительно, пытка являлась для Коконнаса полным крушением его надежд: его отправят в часовню только после пытки, а от нее часто умирали, и умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание как на малодушие; а раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но и пытали более жестоко.
Председатель суда не удостоил Коконнаса ответом, так как конец приговора давал ответ вместо него, и продолжал читать:
– «Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях…»
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Ведь это же бессовестно! Даже не бессовестно, а подло!
Привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв – ярости, которую затем мучения превращают в слезы, – председатель безучастно сделал только знак рукой.
Коконнаса схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками – и все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, что совершал над ним насилие.
– Негодяи! – рычал Коконнас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. – Негодяи! Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать! Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас!
– Повытчик, приготовьтесь записывать, – сказал председатель.
– Да, да, приготовляйся! – рычал Коконнас. – Будет тебе работа, если станешь записывать все, что скажу вам, мерзавцы, палачи! Пиши, пиши!
– Вам угодно сделать признания? – спросил так же спокойно председатель.
– Ни одного слова, ничего. К черту!
– Вы лучше поразмыслите, месье, покамест будут делаться приготовления. Мэтр, приладьте господину сапожки.
При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Коконнасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу.
Это был мэтр Кабош, палач парижского судебного округа. Горькое изумление выразилось на лице Коконнаса, и, вместо того чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту.
Ни один мускул не дрогнул на лице Кабоша; ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонтца, и как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему две доски меж голеней, а две такие же доски приложил к их внешней части, затем обвязал все, голени и доски, веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «испанские сапоги».
При простой пытке забивалось шесть деревянных клиньев между внутренними досками, и доски, раздвигаясь, сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали десять клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кости.
Закончив подготовку, мэтр Кабош просунул кончик клина между досками, стал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда.
– Будете вы говорить? – спросил председатель.
– Нет, – ответил Коконнас решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились.
– Начинайте, – сказал председатель, – первый простой клин.
Кабош поднял над головой тяжелый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук.
Коконнас даже не вскрикнул от первого удара, обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей. Больше того – на лице пьемонтца выразилось неописуемое изумление. Он с недоумением посмотрел на Кабоша, который стоял на одном колене вполоборота, спиной к председателю и, замахнувшись молотом, готов был повторить удар.
– Для чего скрывались вы в лесу? – спросил председатель.
– Чтобы посидеть в тени, – ответил Коконнас.
– Продолжайте, – сказал председатель Кабошу.
Кабош дал второй удар, издавший тот же звук. Но, так же как и при первом ударе, Коконнас даже не повел бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача.
Председатель нахмурился.
– Ну и крепкий мужик! – пробурчал он. – Мэтр, до конца ли вошел клин?
Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и, склоняясь над Коконнасом, шепнул ему:
– Кричите же, несчастный!
Затем, поднявшись, доложил:
– Да, до конца, месье.
– Второй простой, – хладнокровно распорядился председатель.
Слова Кабоша разъяснили все: благородный палач оказывал «своему другу» величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач, – вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенные деревом. Этим он избавлял Коконнаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний, сверх того, он сохранял Коконнасу силы достойно взойти на эшафот.
– Добрый, хороший мой Кабош, – шептал Коконнас, – не бойся: раз это нужно, я заору так, что если будешь мною недоволен, то на тебя трудно угодить.
В это время Кабош просунул между краями досок второй клин, толще первого.
– Продолжайте, – сказал председатель. Кабош ударил так, точно собрался разрушить весь Венсенский замок.
– Ой-ой-ой! У-у-у! – заорал Коконнас на все лады. – Тысяча громов! Осторожней, вы ломаете мне кости!
– Ага! Второй сделал свое дело, – ухмыляясь, сказал председатель, – а то я уж начал удивляться.
Коконнас дышал шумно, как кузнечный мех.
– Так что же вы делали в лесу? – повторил вопрос председатель.
– А! Дьявольщина! Я уж сказал вам: дышал свежим воздухом!
– Продолжайте, – распорядился председатель.
– Признавайтесь, – шепнул Кабош.
– В чем?
– В чем хотите, хоть что-нибудь.
И Кабош дал второй удар, не слабее первого. Коконнас чуть не задохся от крика.
– Ох! Ой! Что вы хотите знать, месье? По чьему приказанию я был в лесу?
– Да, месье.
– Я был там по приказанию герцога Алансонского.
– Запишите, – распорядился председатель.
– Если я подстраивал ловушку королю Наваррскому и совершил этим преступление, – продолжал Коконнас, – так я был простым орудием, месье, я выполнял только приказание моего господина.
Повытчик принялся записывать.
«Ага, ты донес на меня, бледная рожа! – говорил про себя Коконнас. – Погоди же у меня, погоди!»
Он рассказал, как герцог Алансонский ходил к королю Наваррскому, как герцог виделся с де Муи, историю с вишневым плащом, – рассказал все, не забывая орать и время от времени давая повод возобновлять удары молотом.
Словом, он сообщил кучу всяких сведений, очень ценных, верных, неопровержимых и опасных для герцога Алансонского, делая вид, что дает эти сведения только из-за страшной боли. Коконнас так хорошо играл роль, так естественно гримасничал, выл, стонал на все лады, дал столько показаний, что наконец сам председатель испугался того количества позорных, особенно для принца крови, подробностей, которые по его же приказанию заносились в протокол пытки.
«Вот это ладно! – думал Кабош. – Моему дворянину не надо повторять одно и то же; уж и задал он повытчику работу. Господи Иисусе! А что бы было, кабы клинья были не кожаные, а деревянные?»
За эти признания Коконнасу простили последний клин чрезвычайной пытки; но и без него те девять клиньев, которые ему забили, должны были превратить его ноги в месиво.
Председатель подчеркнул, что смягчение приговора дано за признания Коконнаса, и вышел.
Коконнас остался наедине с Кабошем.
– Ну, как себя чувствуете, месье? – спросил Кабош.
– Ах, друг мой, мой хороший друг, милый мой Кабош! – сказал Коконнас. – Будь уверен, что я останусь признателен тебе… всю жизнь.
– Да-а! И будете правы, месье: кабы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я; но уж меня не пощадили бы, как пощадил вас я.
– Но как тебе пришло в голову устроить эти…
– А вот как, – говорил Кабош, обертывая Коконнасу ноги в окровавленные тряпки. – Я узнал, что вас арестовали, узнал, что над вами нарядили суд, узнал, что королева Екатерина добивается вашей смерти, догадался, что вас будут пытать, и принял нужные меры.
– Несмотря на то, что тебе грозило?
– Месье, вы единственный дворянин, который пожал мне руку, – ответил Кабош, – ведь у палача тоже есть память и душа, какой он там ни будь палач, а может быть, как раз оттого, что он палач. Вот завтра увидите, какая будет чистая работа.
– Завтра? – спросил Коконнас.
– Конечно, завтра.
– Какая работа?
– Как – какая? Вы, что же, забыли приговор?
– Ах да! Верно, приговор, – ответил Коконнас, – я и забыл.
В действительности Коконнас не забывал о приговоре, но занят был другим: воображал себе часовню, нож, спрятанный под покровом престола, Анриетту и королеву, дверь в ризнице и двух лошадей у опушки леса; он думал о свободе, о скачке по вольному простору, о безопасности за границей Франции.
– Теперь надо половчее переложить вас со станка на носилки. Не забудьте, что для всех, даже для моих помощников, у вас раздроблены ноги, и при каждом движении вы должны кричать.
– Ой, ой! – простонал Коконнас, увидев двух помощников палача, подходивших к нему с носилками.
– Ну, ну, подбодритесь, – сказал Кабош, – если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас?
– Дорогой Кабош, – взмолился Коконнас, – не давайте меня трогать вашим почтенным спутникам, будьте так добры… может быть, у них не такая легкая рука, как у вас.
– Поставьте носилки рядом со станком, – приказал Кабош.
Его помощники выполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коконнаса, как ребенка, и переложил на носилки; но, несмотря на всю его осторожность, Коконнас кричал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарем в руке.
– В часовню, – сказал он.
Носильщики понесли Коконнаса, пожавшего мэтру Кабошу второй раз руку.
Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонтца, что от его предубеждений не осталось и следа.
IX. Часовня
Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов.
Коконнас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую темь, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега.
В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у клироса, в трех шагах от алтаря, лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Ла Моль.
Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверьми часовни.
– Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, – сказал Коконнас, придавая жалобный тон голосу, – то отнесите меня к моему другу.
Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконнаса.
Ла Моль лежал сумрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене; сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости, а смоченные пóтом волосы имели такой вид, как будто они встали у него на голове и в этом состоянии остались.
Тюремщик рукой дал знак двум носильщикам, чтобы они сходили за священником, – это было условным сигналом бегства.
Коконнас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками; да и не один Коконнас следил за ними: едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой.
Маргарита кинулась к Ла Молю и обняла его. Ла Моль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру пьемонтца и чуть не свел его с ума.
– Боже мой! Что такое?! – воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ла Моля.
Ла Моль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик.
– Боже, что с тобой? – воскликнула она. – Ты весь в крови.
Коконнас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетту, обернулся на ее слова.
– Вставай, вставай же, – говорила Маргарита, – разве ты не видишь? Пора бежать!
Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ла Моля, хотя ему как будто и не пристало улыбаться.
– Дорогая королева! – сказал молодой человек. – Вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали, у меня раздроблены все кости, мое тело – сплошная рана, а мои старания поцеловать вас в лоб причиняют мне такую боль, что легче смерть.
Действительно, приложив свои губы ко лбу королевы, Ла Моль весь побелел от этого усилия.
– Пытали?! – воскликнул Коконнас. – Так меня тоже пытали; но разве палач обошелся с тобой не так же, как со мной?
И Коконнас рассказал, как было дело.
– Ах! Все понятно! – сказал Ла Моль. – Когда мы были у него, ты пожал ему руку; а я забыл, что все люди – братья, во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню, благодарю за это бога!
И Ла Моль молитвенно сложил руки. Коконнас и обе дамы в неизъяснимом ужасе переглянулись.
– Скорей, скорей! – сказал тюремщик, вернувшись от входной двери, где он стоял на страже. – Не теряйте времени: ударяйте меня кинжалом – только по чести, как дворянин! Скорей, а то они сейчас придут!
Маргарита стояла на коленях перед Ла Молем, подобно мраморной надгробной статуе, склоненной над изображением того, кто покоится в гробнице.
– Друг, не унывай, – сказал Коконнас. – Я сильный, я унесу тебя, посажу на твою лошадь, а если не сможешь сам держаться в седле, я посажу тебя перед собой и буду держать; но едем, едем! Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни!
– Правда, от этого зависит твоя жизнь, – сказал Ла Моль.
Он сделал сверхчеловеческое, невероятное усилие и попытался встать. Аннибал взял его под мышки и поставил стоймя. Но пока он это делал, из уст Ла Моля все время слышалось какое-то глухое завывание; а как только Коконнас на одно мгновение отстранился от Ла Моля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Ла Моля подогнулись, и, несмотря на все усилия Mapгариты и Анриетты, он рухнул на пол с раздирающим душу криком, который разнесся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в ее высоких сводах.
– Видите, – скорбно произнес Ла Моль, – видите, королева? Бросьте же меня, оставьте здесь, сказав последнее «прости». Маргарита, я не произнес ни слова, ваша тайна осталась скрытой в моей любви и умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте!..
Маргарита, сама чуть живая, обвила руками дорогую ей голову и поцеловала ее непорочным поцелуем, почти святым.
– Аннибал, – сказал Ла Моль, – ты избежал мучений, ты еще молод, ты можешь жить; беги, беги, мой друг! Я хочу знать, что ты на свободе, дай мне это последнее утешение.
– Время идет! – крикнул тюремщик. – Скорее, торопитесь!
В это время Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Ла Моля и плакала горючими слезами, похожая на кающуюся Магдалину, а Анриетта втихомолку старалась увести пьемонтца.
– Беги, Аннибал, – повторил Ла Моль, – не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью.
Коконнас нежно отстранил Анриетту, тянувшую его к двери, и, сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал:
– Мадам, прежде всего отдайте этому человеку пятьсот экю, которые ему обещаны.
– Вот они, – ответила Анриетта.
Затем, грустно покачав головой, он обратился к Ла Молю:
– Милый мой Ла Моль, ты оскорбил меня, если подумал хотя на одну минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся и жить, и умереть с тобой? Но ты так мучишься, мой бедный друг, что я тебе прощаю.
Он решительно лег рядом со своим другом, наклонил к нему голову и коснулся губами его лба. Затем тихо, осторожно, как мать берет ребенка, взял голову Ла Моля и положил ее к себе на грудь.
Маргарита стала мрачной. Она подняла кинжал, который обронил Коконнас.
– Королева моя, – говорил Ла Моль, догадываясь о ее намерении и протягивая к ней руки, – о моя королева! Не забывайте: я пошел на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло.
– Если нельзя мне даже умереть с тобой, что же другое могу я сделать для тебя? – воскликнула Маргарита.
– Можешь, – ответил Ла Моль, – ты можешь сделать так, что мне будет мила и сама смерть, что она придет за мной с приветливым лицом.
Маргарита нагнулась к нему, сложив ладони, как бы умоляя его говорить.
– Маргарита, помнишь вечер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я отдаю тебе сегодня, а ты взамен ее мне свято обещала одну вещь?
Маргарита затрепетала.
– А-а! Ты вздрогнула, значит, ты помнишь?
– Да, помню, да, и клянусь душой, мой Гиацинт, исполню то, что обещала.
Маргарита простерла руки к алтарю, как бы вторично беря бога в свидетели своей клятвы.
Лицо Ла Моля сразу просияло, как будто своды часовни вдруг разверзлись и небесный луч пал на его лицо.
– Идут! Идут! – предупредил тюремщик.
Маргарита вскрикнула и кинулась было к Ла Молю, но с трепетом остановилась из страха причинить ему боль.
Анриетта поцеловала Коконнаса и сказала:
– Понимаю тебя, мой Аннибал, и горжусь тобой. Я знаю, твой героизм ведет к смерти, но за этот героизм я и люблю тебя. Кроме бога, я буду любить тебя больше всего на свете, и хотя не знаю, в чем Маргарита поклялась Ла Молю, но клянусь сделать то же самое и для тебя!
И она протянула руку Маргарите.
– Ты хорошо сказала, благодарю тебя, – ответил Коконнас.
– Перед расставанием, королева моя, – сказал Ла Моль, – окажите последнюю вашу милость: дайте мне что-нибудь на память о вас, что я мог бы поцеловать, всходя на эшафот.
– О да! – воскликнула Маргарита. – Вот!
И она сняла с шеи маленький золотой ковчежец на золотой цепочке.
– На, возьми! Этот святой ковчежец я ношу с самого детства. Моя мать надела мне его на шею, когда я была малюткой и она меня еще любила; нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я никогда не расставалась с ним. На, возьми!
Ла Моль взял и горячо поцеловал ковчежец.
– Отпирают дверь! – крикнул тюремщик. – Бегите же! Скорей, скорей!
Обе дамы побежали и скрылись за алтарем.
Вошел священник.
X. Площадь Сен-Жан-ан-Грев
Семь часов утра. Шумная толпа заполняет улицы, площади, набережные и ждет.
В десять часов утра та же таратайка, что некогда привезла в Лувр двух лежавших без сознания друзей после их дуэли, выехала из Венсенского замка, медленно проследовала по улице Сент-Антуан, где зеваки, давя друг друга, стояли словно статуи с застывшим взглядом и с печатью молчания на устах. В этот день королева-мать показала народу действительно раздирающее душу зрелище.
В таратайке, тащившейся по улицам, два молодых человека с непокрытой головой, одетые в черное, полулежали на соломе, прижавшись один к другому. Коконнас держал у себя на коленях Ла Моля, который возвышался головой над краями таратайки и мутным взором смотрел по сторонам.
В это время толпа, стараясь проникнуть жадными глазами в самую глубину повозки, теснилась вокруг нее, приподнималась, становилась на цыпочки, влезала на тумбы, лепилась по выступам на стенах и чувствовала себя удовлетворенной лишь тогда, когда ей удавалось прощупать взглядом каждый дюйм на этих двух телах, уцелевших от пытки только для того, чтобы уйти в небытие.
Кто-то сказал, что Ла Моль умирает, не признав ни одного предъявленного обвинения. Коконнас же, как уверяли, не стерпел боли и все раскрыл.
Поэтому со всех сторон раздавались крики:
– Видите, видите рыжего? Это он все рассказал, все выболтал! Трус! Из-за него и другой идет на смерть. А другой – храбрый, не сказал ни слова.
Оба друга хорошо слышали и похвалы одному, и оскорбления другому, сопровождавшие их смертный путь. Ла Моль жал руки своему другу, а лицо пьемонтца выражало безграничное презрение, и он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницы.
– Скоро ли мы доедем? – спросил Ла Моль. – Друг, у меня больше нет сил, я чувствую, что упаду в обморок.
– Держись, Ла Моль, сейчас проедем мимо переулков Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри!
– Ах! Приподними меня – хочу еще раз поглядеть на этот приют блаженства!
Коконнас тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью.
– Мэтр, – сказал Коконнас, – окажи нам услугу и остановись на минуту против переулка Тизон.
Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до переулка, остановился. Ла Моль благодаря помощи друга кое-как приподнялся, со слезами на глазах посмотрел на одинокий домик, безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжкий вздох вырвался из его груди.
– Прощай! – шептал Ла Моль. – Прощай, молодость, любовь, жизнь!
И голова его поникла.
– Не падай духом! – сказал Коконнас. – Быть может, все это мы опять найдем на небесах.
– Ты веришь в это? – спросил Ла Моль.
– Верю, потому что так мне сказал священник, а главное, потому, что я надеюсь. Но не теряй сознания, держись, мой друг, а то нас засмеют все эти негодяи, которые на нас глазеют.
Кабош услышал его последние слова и, подгоняя одной рукой лошадь, протянул назад другую руку и незаметно передал маленькую губку, пропитанную настолько сильным возбуждающим, что Ла Моль, понюхав губку и потерев ею виски, сразу почувствовал себя свежее и бодрее.
– Уф! Я ожил, – сказал он и поцеловал висевший у него на шее золотой ковчежец.
Когда они доехали до угла набережной и обогнули очаровательное небольшое здание, построенное Генрихом II, стал виден эшафот, который возвышался над толпой и представлял собой высокий, голый, кровью залитый помост.
– Друг, я хочу умереть первым, – сказал Ла Моль.
Коконнас второй раз дотронулся рукой до плеча Кабоша.
– Что такое, месье? – спросил палач, обернувшись.
– Милый человек, ты хочешь доставить мне удовольствие? По крайней мере, ты так мне говорил.
– Да, и повторяю это.
– Вот друг мой пострадал больше меня, поэтому и сил у него меньше.
– Так что?
– Он говорит, что ему будет чересчур тяжко смотреть, как будут меня казнить. А кроме того, если я умру первым, некому будет внести его на эшафот.
– Ладно, ладно, – сказал Кабош, отирая слезу тыльной стороной руки, – не беспокойтесь, будет по-вашему.