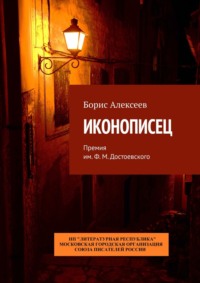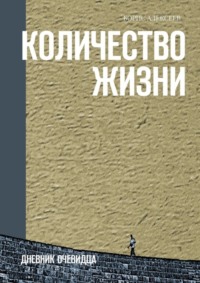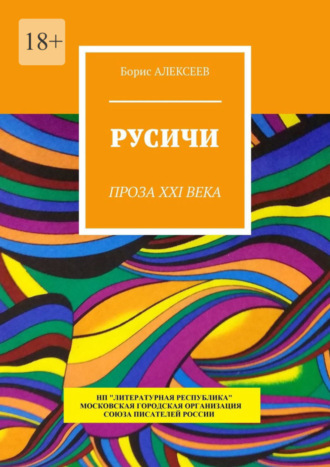
Полная версия
Русичи. Проза XXI века
Утешение, которое Степан нашёл в занятиях литературой, вскоре уступило место традиционным угрызениям совести. Он вдруг ощутил внутреннюю ответственность за всепроникающую силу слова.
В прокуренных аудиториях МГИМО и за шторами МИДовских интерьеров Стёпа даже не предполагал наличие огромных окон, через которые поздним вечером можно наблюдать звёзды!
Годы обучения были подчинены одной цели – научиться держать удар и опрокидывать собеседника эффектным оксюмороном. В подобной перепалке слово превращалось в бильярдный шар, в безликий аксессуар собственно интеллектуальной игры. Теперь же, «отложив кий», Стёпа напряжённо всматривался в то или иное причудливое сочетание графем. Так физик всматривается в ядро материи и пишет цепочки формул, предвидя то, что до поры скрыто в сгустке застывшей, ещё никем не тронутой энергии.
5. Под самое небо
А теперь, как сказывал великий Александр Сергеевич, «займёмся»… главным героем нашего романа – богомудрым иконописцем Георгием. Тем более что пересказ «приключений», выпавших в лихие годы перестройки на долю пасынка «обратной перспективы»2, – история поучительная!
В прошлом выпускник знаменитого МИФИ, Егор по распределению оказался в институте Атомной Энергии им. И. В. Курчатова. Подавал серьёзные, наукоёмкие надежды. И всё бы хорошо, но приключилась с ним обыкновенная «хворь» русского интеллигента – болезненный выбор самого правильного жизненного пути.
Западный человек на такое не способен. Родовитость, клановость, наконец семейная традиция – основы западного менталитета. Именно эти качества имеют серьёзные преференции при принятии того или иного решения.
В отличие от европейца, русич с молоком матери впитывает интернациональное (нерациональное!) чувство ответственности за всё происходящее на Земле. Ему ничего не стоит поступиться собственными интересами ради всеобщего блага. Он с лёгкостью оставляет наезженную житейскую колею и переступает на зыбкую трясину околицы. Почему? Да потому что солнце над околицей встаёт раньше, чем над большаком. А раз так, то и светлое будущее над околицей начинается раньше!
Нечто подобное произошло с Егором. Уже «на склоне студенческих лет» ему припомнилось детское увлечение художеством. Стал он срисовывать физиономии товарищей со студенческих билетов. Получалось прикольно! Выстроилась целая очередь желающих получить «документальный» портрет от лучшего художника на курсе! Егор никому не отказывал и с каждым новым «портретом» всё более удивлялся возможности карандаша оставлять на листе бумаги затейливый житейский следок. Как-то вечером, возвращаясь домой, забрёл он в обыкновенную районную изостудию. Поговорил, показал рисунки – приняли.
Вскоре ему «открылось», что искусство – его главное и окончательное предназначение. С лёгкостью гения Георгий поставил крест на аспирантуре, уволился из Курчатника и, как в омут, нырнул в незнакомое пахучее художество, имея за плечами неоконченный курс рисования студийных гипсов и пару одобрительных отзывов преподавателя изостудии.
Следует сказать, что быть гением – внешне привлекательная, но необычайно трудная «профессия». Мало кто из собеседников может понять и оценить мысль гения, выходящую за рамки обыкновенного житейского понимания. Вспомним позднего Рембрандта. Пока его живописный гений возрастал и формировался, Рембрандт Харменс ван Рейн под рукоплескание толпы был вознесён на Олимп голландского искусства. Но лишь развитие Рембрандта вышло за общепонятные рубежи, сытые голландские бюргеры – заказчики и «ценители живописи» – отвернулись от стареющего гения и предали его осмеянию. Подобных примеров много. Ван Гог, Марина Цветаева, Сервантес…
Однажды приятель пригласил Егора в круиз на пароходе по Северному речному пути. В ответ Егор нахмурился и поначалу думал отказаться: ему не хотелось прерывать начатый курс натурного рисования. Однако товарищ был настойчив, пришлось из уважения к дружбе согласиться.
Так будущий иконописец оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. На стене одной из надвратных церквей он увидел древнюю фреску. Это было изображение Богородицы с Младенцем. Образ Божией Матери, рисунок Её рук, обнимающих Младенца, пластика ладоней, изгиб пальцев поразили новоявленного пилигрима. Такого рисования он не знал. И так как все процессы совершались в Егоре на повышенной скорости, в тот же день он «заболел» древнерусской иконографией! Вот оказия! Окольным северным путём Господь привёл нашего героя к церковному художеству. Древняя каноническая живопись, её философия и метод построения изображения по правилам обратной перспективы оказались в сильнейшем резонансе с его внутренним художественным чутьём.
Когда Егор писал натюрморт или рисовал натуру, он не испытывал того внутреннего восторга, каким Господь награждал его, как только он подступал к церковному изображению. Первое же знакомство с канонической живописью подарило ему радостное чувство личной творческой свободы. Ещё ничего толком не понимая в иконописании, он уже знал главное: где кончается изображение этого мира и где начинается настоящее горнее художество. В музыке подобная способность называется абсолютным слухом.
Не удивительно, что продвижение Егора по извилистой иконописной вертикали походило на феерическое восхождение пророка Илии в огненной колеснице. То, что иконописцы постигают годами, он обретал за считанные месяцы.
По возвращении из путешествия по северной Фиваиде3 Егор занял деньги, купил путёвку и улетел в Турцию, в город императора Константина – Константинополь, ныне переименованный турками в Стамбул. Улетел ради одного шага – взглянуть на величайший храм всех времён – Святую Софию Константинопольскую. Он хорошо знал Софию, изучил её по сотням фотографий и восторженных описаний, но то, что довелось увидеть своими глазами, превзошло все его догадки и предположения. Он увидел само небо! Как турки ни старались унизить Софию, как ни срывали позолоту, как ни вешали свои назойливые акбары, они ни на йоту не приблизились к цели.
«Принизить Софию невозможно!» – в слезах повторял Егор, оглядывая её небесное великолепие.
Так «профессиональная участь» Егора была решена – бессрочный и пожизненный иконописец!..
6. Лестница в небо
Наступило утро. Степан взялся угостить Егора настоящим бразильским кофе.
– Ваши планы? – спросил он, отслеживая пенку.
– Мне надо в храм. Вы, милостивый государь, отказались взять деньги. Значит, мне следует отнести их по назначению и раздать художникам.
Степан резко обернулся к Егору.
– А если бы я принял положенную мне контрибуцию, что бы вы, милостивый государь, делали тогда?
Он сделал шаг вперёд, предлагая гостю сесть.
– Пошёл бы в банк и оформил ссуду.
– За проценты?!
В это мгновение коварная бразильская смесь, как вулканическая лава, вырвалась за пределы кофеварки и… Стёпа бросился к плите. Егор с любопытством наблюдал, как сто граммов латиноамериканского порошка повергли в трепет бесстрашного героя ночной переделки. Когда остатки кофе были спасены и разлиты по чашкам, Степан продолжил разговор:
– Возьми меня! Нет, правда, возьми меня с собой, – казалось, он спрашивал и о чём-то одновременно думал. – Я – худой материалист, в смысле, хороший безбожник. Но в последнее время со мной происходят странные вещи. Иду, чувствую, будто ветер в спину. Что такое? Гляжу – впереди церквуха посверкивает. Подойду, постою у ворот и иду дальше. Неловко зайти. Внутри-то весь чужой. А как отойду метров сто, ветер давит грудь и говорит: «Стой!» Нелепо как-то. Что скажешь?
Егор посмотрел на Степана, с минуту подумал и ответил:
– Правда смешной не бывает. Или ты всё это придумал, или тебе вправду нелепо, а признаться в этом страшно. Ты – человек сильный, страхам волю не даёшь. Но за всякое насилие, тем более за насилие над самим собой, нормальному человеку становится так или иначе неловко перед Богом, даже если он считает, что Бога нет. Это как кичиться силой в присутствии силача.
– Ого! Будет о чём поговорить за рюмкой чая! – Степан откинулся на спинку стула. – Ну так что, берёшь?
– Едем.
Они вышли из метро «Арбатская» и направились в сторону Калининского проспекта, переименованного нынче в Новый Арбат. Под огромной, ультрасовременной по тем временам многоэтажкой ютилась древняя пятиглавая церковка. Купола, крашеные в зелёную строительную окись хрома, сверкали на солнце. Белёные стены празднично выделялись на сером фоне городской застройки.
Честно говоря, благополучие церковного фасада казалось в то время непривычным городским новшеством. Ещё стояли в руинах сотни столичных монастырей и приходских храмов. Ещё свобода вероисповедания казалась некоей антисоциалистической новинкой. Люди с опаской и тайной надеждой на некую помощь входили в только что открывшиеся церковные створы. Переступая порой по грудам кирпича и битой штукатурки, они ставили к иконам свечи и что-то тихо шептали, вглядываясь в лик святого, едва видимый сквозь почерневшие слои олифы.
Дух Божий, выпущенный из мирского плена, «собирался с силами» и приступал к исполнению своего главного назначения – утешению слабых и гонимых российских граждан, тех, кого маховик перестройки выбросил на улицу, не позаботившись об элементарном продолжении человеческой жизни.
Да, трудное было время.
И всё же, несмотря на испытания, тяготы и нестроения, худа без добра не бывает. Как явление обратного тока в проводнике, годы перестройки отмечены небывалым подъёмом человеческого самосознания и благородства. В отличие от нынешнего рачительного поколения «жрецов святой Троицы», священники перестройки шли на церковное служение как на баррикады. Им вслед тысячи прихожан-добровольцев, не жалея сил, выносили из храмов горы мусора, разбивали капитальные стены и перегородки, оставшиеся в наследство от светской «утилизации» церковного пространства. Работали бесплатно, весело, с надеждой на лучшие дни, когда дух и совесть вытеснят из человеческого сердца злобу и завись к ближнему своему.
– Нам сюда.
Егор перекрестился, открыл дверь и переступил порожек.
– Запоминай, – добавил он, обернувшись, – храм преподобного Симеона Столпника.
– Преподобного Симеона Столпникова, – повторил Стёпа.
– Да не Столпникова, а Столпника. Столп, понимаешь?
– Насчёт «понимаешь» это ты круто, – пробурчал Степан и произвёл на уровне груди какие-то полумагические движения сначала, как и положено, правой, а затем почему-то ещё и левой рукой.
Покончив с «приветственным перстосложением», он облегчённо выдохнул и последовал за Егором.
Полумрак трапезной залы, аромат кадящего ладана и тихие шёпоты прихожан необычайно сильно подействовали на Степана. Честно говоря, он оказался в действующем храме впервые. И не то, чтобы церковное пространство ему было совершенно незнакомо. Много раз с друзьями-однокурсниками МГИМО, влекомый профессиональным любопытством к собственной истории, он бродил под гулкими сводами кремлёвских соборов, по музейным залам Кирилло-Белозерского монастыря. Но внутреннее «достоинство всезнающего журналюги» не позволяло Степану почувствовать духовный аромат, который излучали древние стены. Сквозь облупившуюся поверхность вековых кирпичных монолитов до него не долетали звуки давно умолкнувших литургий. А святые образы, написанные на стенах, Степан рассматривал как забавные исторические картины. Его не трогали их божественные лица, вернее, лики, расцарапанные, поблекшие, но не потерявшие главного, что вложили в них древние живописцы, – молитвенного дерзновения.
И вдруг отсутствие «религиозных предрассудков» и вера в собственную интеллектуальную значимость пошатнулись и на глазах рассыпались, как потревоженные картонные пазлы. Над ним будто разверзся древнехристианский литургический призыв: «Оглашенные, изыдите!»
Ничего подобного Степан не ожидал. Не чувствуя ни аромата благовоний, ни приятной свежести работающего кондиционера, он бросился к двери и буквально вывалился наружу.
Минут пять Стёпа приходил в себя. Кровь стучала в висках, руки не слушались и походили на две переломанные жердины. «Не дури, паря. Повернулся и пошёл обратно!» – приказал себе Стёпа и на автомате повторно вошёл в дверь.
– Ты куда пропал? – удивился Егор. – Пойдём, покажу главное.
Он вывел гостя из трапезной в четверик. Всё храмовое пространство было уставлено металлическими строительными лесами. Деревянные лестницы призывно переводили взгляд с яруса на ярус и, как змейки, поднимались вверх под самый купол. Четыре нешироких оконных проёма наполняли храм тихим рассеянным светом, сквозь который можно было разглядеть фрагменты живописи на своде. Всё это придавало пространству четверика неземное очарование, а строительные конструкции воспринимались как части некой космической матрицы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Брынцалов – в прошлом фарма-король и кичливый обладатель золотого унитаза, одна из наиболее одиозных фигур времён перестройки.
2
Обратная перспектива – способ построения иконописного пространства.
3
Северная Фиваида – поэтическое название северных русских земель, окружающих Вологду и Белозерск. Появилось как сравнение с древнеегипетской областью Фиваидой, известным местом поселения раннехристианских монахов-отшельников.