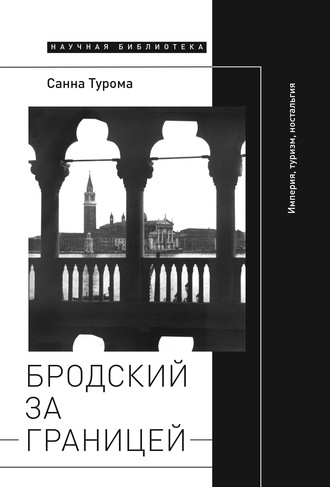
Полная версия
Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия
В стихотворении 1977 года «Квинтет», которое Бродский переработал по-английски в «Секстет», добавив шестую строфу, накопленный опыт путешествий позволяет выразить общее недовольство ими, перемещением, современным миром и жизнью в целом:
Веко подергивается. Изо ртавырывается тишина. Европейские городанастигают друг друга на станциях. Запах мылавыдает обитателю джунглей приближающегося врага.Там, где ступила твоя нога,возникают белые пятна на карте мира.В горле першит. Путешественник просит пить.Дети, которых надо бить,оглашают воздух пронзительным криком. Векоподергивается. Что до колонн, из-заних всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,даже во сне вы видите человека.(СиП, 2, 62)В стихотворении содержится лирический сюжет, в котором полусонный, нервный (веко подергивается) повествователь едет в поезде по Европе, раздраженный громкими детскими голосами. Испытывающий жажду путешественник второй строфы появляется как метафора одновременно повествователя и путешественника в целом, любого путешественника, тогда как само путешествие воспринимается как метафора человеческой жизни, способ существования в пространстве.
Пространство, представленное в стихотворении, одновременно абстрактное и географическое. Поэтическая мысль, заключенная в строчках «Там, где ступила твоя нога, / возникают белые пятна на карте мира», показывает увлечение Бродского онтологическим парадоксом присутствия субъекта в пространстве, которое одновременно предусматривает отсутствие чего-то, что это присутствие замещает. Джон Гивенс возводит интерес Бродского к этому парадоксу в данном стихотворении к влиянию американского поэта Марка Стрэнда – английская версия текста посвящена Стрэнду, название первого сборника стихов которого, «Я сплю, приоткрыв один глаз», откликается в открывающем стихотворение Бродского образе: «веко подергивается»109. Интертекстуальная связь с поэзией Стрэнда подчеркивает идею абстрактного пространства, центральную для творческого воображения обоих поэтов и особенно релевантную для сборника Бродского «Урания» (1987), в который входит «Квинтет». Дилемма двустишия Стрэнда «где бы я ни был, / я то, что отсутствует» парафразой входит в заглавное стихотворение сборника Бродского: «да и что вообще есть пространство, если / не отсутствие в каждой точке тела» (СиП, 2, 113). В следующей строке этого стихотворения, «К Урании», повествователь расширяет эту мысль, включая в текст понятия географии и истории, представленные средствами античной мифологии: «Оттого-то Урания старше Клио». Пространство подчиняет себе время, историю и людей.
Эта идея безграничности пространства как чего-то, что время не может завоевать, идея географии, которая всегда правит историей, является центральной в поэтике Бродского. Единственное средство для человека как-то контролировать пространство – язык и письмо. Сам акт письма, таким образом, – это вторжение в географическое пространство. Здесь Бродский приравнивает пространственное и текстовое вторжение, что является ключевым моментом современных исследований по литературе путешествий110. Но его установка не критическая, а утвердительная. «Стрэндовские» строчки в первой строфе «Квинтета», кроме тематизации отношения человека и абстрактного пространства, актуализируют пространство как географическое понятие. Образ «белых пятен на карте мира» там, «где ступила твоя нога», – это инверсия европейского имперского стремления заполнить «белые пятна» на других континентах. Для современного путешественника таких мест не осталось, и «белые пятна» передают идею того, что присутствие путешественника никак не влияет на место, где он находится, – как если бы он никогда там не был. Таким образом инверсия империалистических побуждений взаимодействует с сожалением по поводу отсутствия этих побуждений или, точнее, с тем, что они невозможны в постимпериалистическом мире. Стихотворение Бродского опирается на Марка Стрэнда в рассуждении об абстрактном пространстве, но что касается географического пространства, истории и путешествий, это больше напоминает то, о чем писала Элизабет Бишоп. В отличие от Бродского она напрямую задавалась вопросами этики путешествий и империалистических побуждений: «Должны ли мы оставаться дома и думать о доме» и никогда не вторгаться «в воображаемые места»?111
В третьей части «Квинтета/Секстета» фигура путешественника приобретает некоторые автобиографические черты:
Тридцать семь лет я смотрю в огонь.Веко подергивается. Ладоньпокрывается потом. Полицейский, взяв документы,выходит в другую комнату.(СиП, 2, 63)Здесь обозначен возраст Бродского на момент написания стихотворения, упомянуты его отношения с властями, предположительно советскими, хотя могут иметься в виду и европейские пограничные формальности. Следующая строфа этой части упоминает о холостом положении поэта: «Ночь; дожив до седин, ужинаешь один, / сам себе быдло, сам себе господин». И наконец, последняя строфа части напоминает о его прошлом «на восточных базарах» с помощью образа путешественника, который «ловит воздух раскрытым ртом», намекая также на плохое здоровье и болезнь сердца:
Я понимаю только жужжанье мухна восточных базарах! На тротуаре в двухшагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети,путешественник ловит воздух раскрытым ртом:сильная боль, на этом убив, на томпродолжается свете.(СиП, 2, 63)Вообще в этой части изначально анонимный путешественник приобретает сходство с повествователем, это автопортрет лирического героя. В пятой части его усталость от жизни, путешествий и изгнания толкает его на то, чтобы представить себя в чистом пространстве без времени:
Теперь представим себе абсолютную пустоту.Место без времени. Собственно воздух. В туи в другую, и в третью сторону. Просто Меккавоздуха. Кислород, водород. И в неммелко подергивается день за днемодинокое веко.(СиП, 2, 64)В «Квинтете/Секстете» все движется к небытию и пустоте и онтологическая инверсия сопровождается обратной эволюцией. Все движутся вниз по эволюционной лестнице – путешественник превращается в рыбу, обезьянка из второй части не успевает стать человеком (подобный воображаемый принцип действует и в стихотворении «Новый Жюль Верн», написанном примерно в то же время). Сведение к нулю эволюции, как биологической, так и культурной, а также самого себя достигает кульминации в финальной строфе стихотворения на русском языке112:
Это – записки натуралиста. За-писки натуралиста. Капающая слезападает в вакууме без всякого ускоренья.Вечнозеленое неврастение, слыша жжуцеце будущего, я дрожу,вцепившись ногтями в свои коренья.(СиП, 2, 64–65)Общее чувство усталости от путешествия и от жизни в целом, выраженное в стихотворении, и осознание того факта, что больше нет пространства, которое может быть покорено, тем не менее не подрывают окончательно стремление к путешествиям и приключениям – «участие в географии», как говорится в «Квинтете/Секстете», лучше участия в истории:
Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,участвуя в географии, в голубизне, а нетолько в истории – этой коросте суши.Лучше Гренландию пересекать, скрипялыжами, оставляя после себяайсберги и тюленьи туши.(СиП, 2, 63)Привлекательность географии для Бродского, как он говорит об этом здесь и в других текстах, связана с несколькими моментами. Помимо метафизических или онтологических причин, указанных выше, стихотворение также связано с более универсальными значениями, которыми пространство и география наделены в поэзии Бродского. Автобиографический источник интереса к географии, как он указывает сам, это его отец, у которого было «два диплома: географа <…> и журналиста» (СИБ2, 5, 326)113. То, что для Бродского географическое пространство ассоциируется со смелостью и приключениями, традиционными характеристиками маскулинности, становится очевидным из характерного пассажа в «Путеводителе по переименованному городу», где он переосмысливает имперский миф Петра Великого. В его представлении царь напоминает стереотипного мужественного героя приключенческих романов: «Человек трезвого ума, хотя и склонный к устрашающим запоям, он рассматривал любую страну, на чью почву ему случалось ступать (не исключая и свою собственную), всего лишь как продолжение пространства. В некотором роде для него география была реальнее истории, и его любимыми сторонами света были север и запад. В общем, он был влюблен в пространство, и особенно в морское» (СИБ2, 5, 56, пер. Л. Лосева). Есть все основания предположить, что в данном случае портрет Петра Великого оказывается близок к автопортрету, особенно в той части, которая касается любви к географии и морю. Чуть дальше в эссе география связывается с литературным творчеством, когда, обсуждая возникновение петербургской литературы, Бродский утверждает: «Причина столь неожиданного творческого взрыва опять-таки была, главным образом, географическая. В контексте тогдашней русской жизни возникновение Санкт-Петербурга было равносильно открытию Нового Света: мыслящие люди того времени получили возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны» (СИБ2, 5, 60).
Поэтическая география Бродского, таким образом, связана с идеализированной героической мужественностью, открытиями, путешествиями, движением и литературным творчеством. Значение, которое поэт вкладывает в понятие географии, ведет к представлению о пространстве как о чем-то, что должно быть завоевано, а параллель между пространственным и текстуальным вторжением на другую территорию всегда была важна в литературе путешествий. Многочисленные путешествия Бродского после 1972 года, так же как проза и поэзия, с ними связанные, говорят о сильном желании «принять участие в географии». Его стихи 70-х и 80-х показывают растущее увлечение идеей абстрактного пространства и отсутствия человека в этом пространстве. Иногда это доходит даже до утверждения о том, что только через пространство можно определить само существование субъекта. Как сказал поэт, принимая Нобелевскую премию, «с точки зрения пространства, любое присутствие в нем случайно» (СИБ2, 6, 55). Отсюда желание представить себя или лирического героя в географическом пространстве, притязая на это пространство и завоевывая его средствами репрезентации.
Помимо того что путевые тексты Бродского после 1972 года демонстрируют желание «принять участие в географии», они помещают лирического героя не только в географическое пространство, но и в историческое время. Как бы повествователь «Квинтета» ни хотел быть отделенным от истории и времени, травелоги Бродского демонстрируют его стремление занять место не только в географии, но также во времени и истории, а если быть точнее – в хронологии литературных путешествий. Прозаические травелоги Бродского, написанные в эмиграции, очень показательны в этом смысле. Первый текст такого рода, «После путешествия, или Посвящается позвоночнику», был написан в 1978 году, через шесть лет после того, как поэт покинул Советский Союз, и явился отражением впечатлений от поездки в Рио-де-Жанейро на конференцию ПЕН-клуба. Это отражение туристических тревог, проникнутое риторикой амнезии. Автор не хочет запоминать места, события или людей. Его нежелание помнить о поездке достигает кульминации в надежде стереть ее из памяти:
Суть в том, что я не видел этого места. Сомневаюсь даже, видел ли то, на что, как я помню, смотрел <…> Но кто устоит перед билетом в оба конца – особенно в экзотический пункт назначения. С другой стороны, это ужасная психологическая западня – обратный билет отнимает у вас любую возможность психологического вклада в это место. Лучший итог подобного путешествия – моментальный снимок себя любимого на каком-нибудь пошловатом фоне – действительно, мы со Стеллой Полярис сделали несколько снимков друг друга в ботаническом саду. Ее камерой. Что избавляет меня от лишнего, пусть маленького, унижения – устраняя, возможно, последнее свидетельство того, что я вообще был в Бразилии (СИБ2, 6, 420–421, пер. В. Куллэ)114.
Эссе представляет собой антитравелог, а его название отражает двойственное отношение автора к путешествиям. Главное наблюдение, которое он делает, это то, что он попал в ситуацию туриста. Осознание этого ведет к сожалению об упущенной возможности «настоящего» путешествия:
Есть нечто отвратительное в этом скольжении по поверхности с фотоаппаратом в руках, без особенной цели. В девятнадцатом веке еще можно было быть Жюль Верном и Гумбольдтом, в двадцатом следует оставить флору и фауну на их собственное усмотрение (СИБ2, 6, 61).
Географическое пространство больше не предоставляет возможности для приключений. Положение туриста кладет конец героической мужественности и ее деяниям. Заглавие носит метанарративный характер: кроме скуки и досады, отраженных в ироническом «посвящается позвоночнику», оно передает понимание того, что эпоха, в которую путешествует автор, – это эпоха «после путешествия». Великий нарратив путешествия закончен – если использовать терминологию Лиотара115. Быстрое путешествие с билетом в оба конца в эпоху реактивных самолетов нарушает ход времени, обычный для традиционного транспорта (поезд, корабль) и вводит категорию скорости, противоположную понятиям трудности и приключений, как замечают Патрик Холланд и Грэм Хагган116.
Сожаления Бродского перекликаются с замечанием, которое делает Клод Леви-Стросс в первой главе «Печальных тропиков», показательно названной «Конец путешествиям»:
Однако иллюзия начинает коварно расставлять свои сети. Я хотел бы жить в эпоху «настоящих» путешествий, когда видение представало во всем своем величии, еще не испорченное, не искаженное, не проклятое. Я уже не самостоятельно преодолеваю этот барьер, а лишь вслед за Бернье, Тавернье, Мануччи <…> В результате я обречен на альтернативу: быть путешественником в далеком прошлом, перед которым открывалась невиданная картина, однако почти все, что он видел, было для него непостижимым и, что печальнее всего, вызывало у него насмешку или отвращение, – или же быть современным путешественником, разыскивающим следы исчезнувшей реальности117.
Эти размышления Леви-Стросса предвосхищают ироническое (и все же ностальгическое) сожаление о потерянных возможностях исследования тропиков для европейца, которое Бродский выражает в своем бразильском травелоге и которое отражает осознание европейцами периода заката колониальной эры, конца эпохи путешествий и приключений. «Быть Жюль Верном», желание, о недоступности которого для современного путешественника жалеет автор, реализуемо только через поэтическое воображение современного писателя, как это происходит в «Новом Жюль Верне», стихотворении, которое Бродский написал за два года до поездки в Бразилию. В нем Бродский увлекает читателя в исследование морей и их глубин, исследование, которое, как кажется, вдохновлено приключенческими романами, которые он читал в юности, и успехами советской океанологии.
«Путешествие в Стамбул», написанное в 1985 году эссе о Турции, начинается с обозначения того же чувства антипутешествия, которое мы видели в «После путешествия…»: «Мое желание попасть в Стамбул никогда не было желанием подлинным. Не уверен даже, следует ли вообще употреблять здесь это понятие» (СИБ2, 5, 281). Затем Бродский объясняет свое решение поехать в Турцию, вспоминая обещание, данное себе в Ленинграде, объехать земной шар по широте и долготе родного города. Также он приводит целый список других причин. Одна из них – желание почувствовать историческую атмосферу Стамбула: «мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий повсюду дух и интерьер» (СИБ2, 5, 282). Стамбул для него олицетворяет прошлое, а не настоящее или будущее. Эта проекция прошлого на образ Востока – одно из ориенталистских клише, которые Бродский использует в «Путешествии в Стамбул» (см. подробнее в главе 5). В то же самое время желание найти «исчезающий повсюду дух и интерьер» отражает сожаление о гомогенизации современного мира и ностальгию по исторической подлинности и настоящим путешествиям.
Нарратив путешествия, который создает историческое воображение Бродского, таким образом, следует за нарративом, описанным Полом Фасселом в его книге «За границей». Согласно Фасселу, травелоги, созданные ведущими англо-американскими писателями-модернистами между двумя войнами, все еще несут печать духа приключений и исследования, что для него является исторической моделью литературы путешествий: «До прихода туризма были путешествия, а до путешествий были исследования неизвестных территорий. Каждый этап принадлежит своему периоду истории. Исследования – Возрождению, путешествия – буржуазной эпохе, туризм – нашему пролетарскому настоящему»118. В этом нарративе исследования связаны с периодом, когда европейцы открывали другие континенты, путешествия совпадают с пиком колонизации, а туризм – с послевоенным коллапсом, связанным с потерей европейцами контроля над колониями. Другими словами, тоска Фасселла по «настоящим» путешествиям – это тоска по колониальному прошлому Запада, чувство, присутствующее и в рассуждениях Бродского о Латинской Америке.
Как показывают все эти примеры, травелоги Бродского раскрывают не только ностальгию изгнанника, но и ностальгию по имперскому прошлому Европы, о чем будет больше сказано в последующих главах, а также ностальгию туриста по настоящим путешествиям. Эра байроновских побегов, героических исследований и приключений завершилась, и все, что осталось, как показывает бразильский травелог Бродского, это пародировать себя самого как туриста, что он и делает, когда описывает, как «путешественник» (так он называет «перволичного» повествователя в эссе) лишается бумажника, украденного на пляже Копакабана, и поэтому отменяет запланированную поездку вверх по Амазонке. С другой стороны, как он замечает, «было бы даже занятно для русского автора – дать дуба в джунглях» (СИБ2, 6, 61). Другими словами, типичные обстоятельства, в которых находится турист постимперской эпохи, лишают его даже шанса имитировать исследования и приключения, а самое главное и огорчительное, лишают возможности исторически значимой и осмысленной авторской судьбы, позволяющей войти в историю литературы.
Кульминацию туристической темы, представленной в травелогах Бродского, мы находим в англоязычном эссе 1986 года «Место не хуже любого», представляющем торжество современного туристического опыта над исчезающим чувством изгнаннической ностальгии. Написанное спустя десять лет после бразильского травелога и включенное в сборник «О скорби и разуме», это эссе представляет собой описание опыта путешествия, представленное в форме ночного кошмара. В тексте представлен «путешественник», который находится в ситуации преследования («либо нас преследуют, либо мы преследуем кого-то») в городе, чьи черты принадлежат «одновременно нескольким местам», напоминающим те, где «мы побывали в прошлом или позапрошлом году». Топография этого гибридного города составлена из мест на пути туриста: аэропорт, вокзал, стоянка такси, рестораны, музеи, магазины. На этом пути «путешественник» сталкивается с обыденными проблемами – оставить правильную сумму чаевых, найти туалет, получить скидку, понимать местный язык, не зная его, выбрать развлечения и следовать путеводителю. Периодически нарратив сбивается на перечисление туристических достопримечательностей, которые автор с удовольствием называет, как, например, целый перечень европейских вокзалов. Что постепенно проявляется из этого кошмара – это идеальный город-гибрид с чертами, извлеченными из других произведений Бродского, в частности с чертами Венеции. Представленный как кошмар, текст разворачивается как критика туристических практик, но затем деконструирует эту критику, и туристический опыт торжествует. «Путешественник», сопротивляющийся этому опыту, оказывается неспособным сравнить себя или идентифицировать с кем-то другим, кроме собственного двойника: «Так что, если вы и обнаружите кого-нибудь в баре гостиницы, весьма вероятно, это будет такой же, как вы, путешественник. „Слушайте, – скажет он, обернувшись к вам. – Почему здесь так пусто? Нейтронная бомба или что?“» (СИБ2, 6, 43).
Наконец, описание туристического опыта перерастает в критику современной культуры и общества. Кульминацией кошмара становится осознание того, что образ города – это образ не самого города, а его репродукции, открытки: «Мы знаем эти вертикальные штуки [знаменитые памятники архитектуры] до того, как увидим их. Но даже после того, как мы их увидели, мы сохраняем не трехмерный образ, а типографский вариант. Строго говоря, мы помним не место, а открытку» (СИБ2, 6, 39). Другими словами, бесчисленные репродукции туристических достопримечательностей, или маркеров, как назвал их Дин Макканел, то есть открытки, постеры, миниатюры и другие сувениры, заслоняют оригинальный вид. Гибридные образы, которые производит наше подсознание, как Бродский, похоже, считает, – это образы репродукций, знаки знаков с ускользающим референтом. Переоценка иерархии оригинала и копии, о которой говорит Бродский, выраженная в «снижении или подмене» (СИБ2, 6, 39), тем не менее не размывает различия, как может показаться с первого взгляда. Это становится очевидным, когда Бродский расширяет свою критику на современность в целом. На фоне концепции истории, которую развивает текст, позиция Бродского напоминает платонические жалобы Жана Бодрийяра на утрату референта, исторически легитимного и этически более высокого оригинала: «И неудивительно, что путешественник чтит древние руины много больше современных, оставленных в центре отцами города с поучительной целью: путешественник, по определению, – продукт иерархического мышления» (СИБ2, 6, 40)119. Иерархия прошлого и настоящего, «древних» руин и «современных» руин, основана не на эстетическом, но на этическом выборе. Историческое – значит, оригинальное и подлинное, современное – неоригинальное и неаутентичное. Отсюда открытая неприязнь Бродского к современному искусству, обычная в его травелогах. Ритм нашего восприятия реальности ускорен технологическим прогрессом, и это, по Бродскому, притупляет восприятие исторических деталей: для наблюдателя из быстро едущего автомобиля статуя «местного военного или гражданского гения восемнадцатого столетия» выглядит как «некое подобие одетого в кожу Вильгельма Телля или кого-нибудь в том же роде» (СИБ2, 6, 40). Суммируя это ощущение, Бродский инвертирует одну из своих любимых бинарных оппозиций – истории и географии: «история давно покинула ваш город, оставив сцену более стихийным силам географии и коммерции» (СИБ2, 6, 41).
Слово «путешественник», часто повторяющееся в эссе, вновь появляется в начале «Набережной неисцелимых», где воспоминания о прибытии на венецианский вокзал, ночной поездке в пансион в компании местной жительницы и пробуждении от солнечного света следующим утром вызывают в памяти «Охранную грамоту» Пастернака. Повторяющееся слово «путешественник» и хронотоп зимнего вечера на вокзале также напоминают о романе Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». В первом мемуарном отрывке фрагментарного нарратива «Набережной неисцелимых» Бродский детально описывает «путешественника», наделяя его конкретными чертами и обликом, близким к автопортрету:
В том маловероятном случае, если чьи-то глаза следили за моим белым лондонским дождевиком и темно-коричневым борсалино, то суммарный силуэт этих глаз бы не резал. Самой ночи поглотить его точно не составило бы труда. Мимикрия – на мой взгляд, обязательное свойство путешественника, а сложившаяся к тому времени в моем сознании Италия состояла из черно-белых фильмов пятидесятых и имеющих ту же окраску принадлежностей моего ремесла (СИБ2, 7, 7–8).
Ностальгия, которой проникнут этот автобиографический пассаж, двунаправленна. С одной стороны, это тоска по идеалу молодого человека, по тому, как должен выглядеть путешественник в Италии. С другой – это ностальгия зрелого автора по этой юношеской ностальгии. Упоминание «черно-белых фильмов» отсылает к увлечению советских шестидесятников итальянским неореализмом, а «лондонский дождевик» и «борсалино» – к эстетике путешествий прошлого. Но этот отрывок включает и еще один уровень ностальгии – он представляет автора во время, когда его идеалистическое представление подлинного и индивидуального путешествия еще не подорвано возникающим из последующего туристического опыта чувством «мимикрии» как «обязательного свойства путешественника». Другими словами, этот фрагмент отражает сожаления автора о потерянной невинности путешественника. Это сожаление связано с понятиями оригинального и подлинного, что в свою очередь указывает на утопический характер ностальгии. Подлинность путешествия – утраченный идеал, который фигура «путешественника» в «Набережной…» и означает. Это сознательная, ироническая ностальгия. Ретроспективная стилизация показывает отделение автора от себя и своего прошлого: «зима была правильным сезоном; единственное, чего, по-моему, мне не хватало, чтобы сойти за местного шалопая или carbonaro, был шарф» (СИБ2, 7, 8. Курсив мой. – С.Т.). Ироническая репрезентация собственной ностальгии дает автору эстетическое средство, соответствующее его неразрешимому состоянию меланхолии120. Наконец, на фоне описаний повторяющихся поездок в Венецию, хронологии отъездов и возвращений фигура «путешественника» в отрывочных фрагментах «Набережной…» демонстрирует авторскую ностальгию по античному мифу о возвращении, нарративу Одиссея. Это сближает эссе с многочисленными поэтическими текстами Бродского, в которых образ Одиссея использован для описания жизненных событий. Два самых показательных из них – «Одиссей Телемаку» (1972) и «Итака» (1993).

