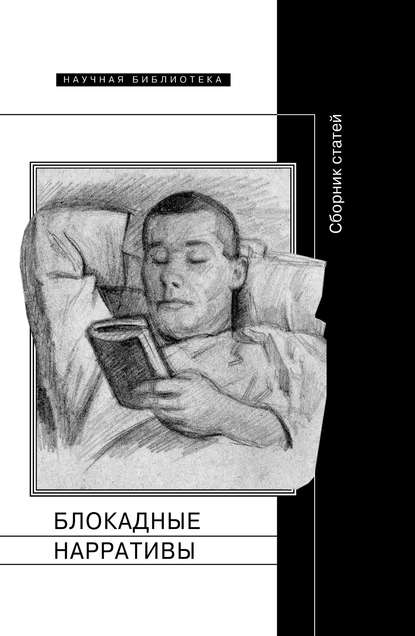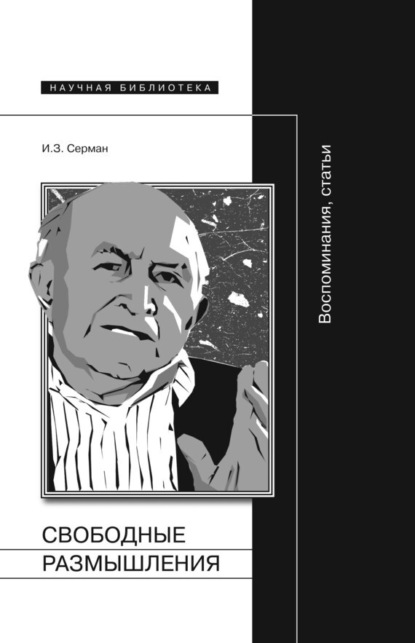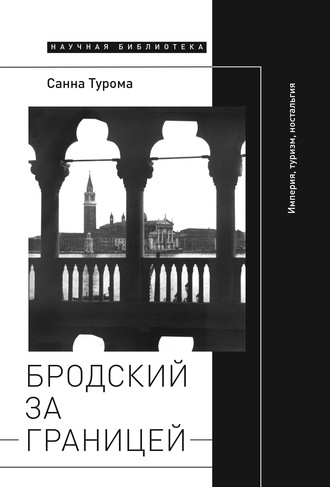
Полная версия
Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия
Как видно из приведенных исторических обзоров русской и англоязычной литературы путешествий, развитие русских литературных путешествий, в отличие от англоязычных, определялось ограничениями и запретами сначала со стороны царского, затем советского режима. Из этого следует, что любое исследование русской литературы путешествий должно учитывать различие нарративов, связанных с принудительным и свободным перемещением. Не менее важно не просто различать эти два типа нарративов, но обращать внимание на своеобразную полемику между ними в русском культурном контексте. Ссылка Пушкина на Черное море оказалась продуктивной для формирования его литературной идентичности в противостоянии авторитарным механизмам русской культуры, а его южные поэмы и строфы путешествия Онегина возникли благодаря возможности путешествовать на Кавказ и в другие южные регионы Российской империи. Это повлияло и на эволюцию русской литературы путешествий в целом. В случае Пушкина идентичность изгнанника неотделима от идентичности лирического героя в нерусском окружении – и оба этих типа идентичности важны для русской культурной мифологии. Проза и поэзия Бродского манифестируют эту своеобразную русскую диалектику перемещения, перенесенную в декорации холодной войны. Хотя сложно отделить стихи Бродского, написанные в северной ссылке, от общей трактовки темы изгнания в русских интеллектуальных кругах, его путевые произведения, созданные в эмиграции, за пределами Советского Союза, раскрывают тему перемещения одновременно принудительного и добровольного. Свобода путешествовать и проводить литературное освоение чужих территорий была дарована Бродскому ценой вынужденного отъезда. Опыт изгнания и туризма – двух главных форм перемещения, часто воспринимающихся как противоположные условия существования человека, – главная проблема большинства текстов Бродского после 1972 года.
На протяжении десятилетий жизни в эмиграции, когда Бродский написал значительное количество текстов-путешествий, тема путешествия привлекала все большее внимание западного академического сообщества и стала, если использовать выражение редакторов кембриджского справочника, «ключевой темой социальных и гуманитарных наук»21. Наряду с исследовательским интересом к самому понятию путешествия и метафорам, связанным с ним, появилось значительное количество научных работ, посвященных литературе путешествий, произведениям конкретных авторов, а также теме путешествия в литературе в целом22. Теоретический подход к изучению путешествий во многом опирался на опыт исследований в области постколониальной и феминистской критики, ключевой вклад в развитие которых внесли Эдвард Саид, Гаятри Спивак и Хоми Баба. Отметим, что теоретические основы предлагаемых этими учеными подходов, связанные в основном с критикой евро- и англоцентрических взглядов на литературу путешествий и в ней самой, кажутся не особенно применимыми к изучению русских поэтических путешествий, особенно написанных таким автором, как Бродский, чья маргинальная позиция в советской империи не попадает в парадигму евроцентрического имперского могущества и противостояния ему, подразумеваемую в указанных исследованиях23. Применение этих подходов к произведениям Бродского, написанным после 1972 года, показывает связь его репрезентативных стратегий с доминирующим дискурсом, разделяемым обеими метрополиями – русской и евро-американской. Авторитарная точка зрения в путевых нарративах Бродского, особенно неевропейских, обусловлена русским, советским и европейским имперским знанием24. По той же причине можно задаваться вопросом, как это делает Деннис Поттер в своем исследовании европейской литературы путешествий, представляет ли эта литература «попытку преодолеть культурную дистанцию с помощью длительного акта понимания» или же «средство для выражения европоцентристского тщеславия или расовой нетолерантности». Этот вопрос небезынтересен и для исследования русской литературы путешествий в целом и путевой прозы и поэзии Бродского в частности, несмотря на идиосинкразический характер подобного тщеславия в России25.
Помимо «понимания» и «нетолерантности», которые Поттер вводит для обозначения двух базовых отношений к «другим», с неизбежностью порождаемых в литературе путешествий, Патрик Холланд и Грэм Хагган предложили парадигму другого рода. В своем исследовании современной литературы путешествий на английском языке они задаются вопросом: «что происходит с литературой путешествий в эпоху, которую Хоми Баба назвал „транснациональной диссеминацией“, когда идея национальной культуры или даже культуры вообще находится под угрозой?» Исследователи дают два основных ответа:
Возможны по крайней мере два более или менее диаметрально противоположных набора ответов. Во-первых, литература путешествий может распознавать конфликт культурных истоков, фокусируясь не столько на отношениях между путешественником и целевой культурой (или культурами), сколько на процессе транскультурации – или на взаимном обмене и модификации, – который возникает при столкновении или пересечении различных форм культуры… Второй набор ответов связан с осознанием анахронизма. Невозможно больше навязывать, скажем, образ «английского джентльмена за границей», делая вид, что этот джентльмен – белый, разумеется, – существует где-либо кроме мифа. Но миф определенно продолжает жить и неразрывно связан с возмездием, даже если его эффект по большей части комичен, а сила очевидным образом идет на убыль… Эти два ответа симптоматичны для «постимперской» эры, которой еще предстоит избавиться от рецидивов собственных убеждений26.
Путешествия Бродского часто обнажают процесс его собственной транскультурации27, хотя он часто фокусируется на «конфликте культурных истоков». «Набережная неисцелимых» выразительно демонстрирует первое. «Путешествие в Стамбул» – мощная манифестация второго. В то же время большинство текстов Бродского, относящихся к путевой прозе и поэзии, связаны с категориями анахронизма и его осознания, упоминаемыми Холландом и Хагганом. Более того, анахронизм Бродского, в отличие от британских и североамериканских авторов, чувствуется вдвойне. Транскультурация Бродского в английский язык и североамериканскую академическую среду была переходом на Запад из стагнирующего имперского государства с монолитной культурной гегемонией на всей территории. В западном мире имперское доминирование Европы над ее прежними колониями подходило к концу и модернистский канон, тесно связанный с европейским империализмом, испытывал сильное давление со стороны новых эстетических практик.
Бродский вышел из русской советской субкультуры, где понятие «постимперского» было связано с целым рядом ностальгических значений, из которых возникало представление о современном Западе, а модернистские ценности значительно отличались от господствующей имперской реальности и официальных эстетических практик. Он столкнулся с современностью, которая не соответствовала его опыту отношений между империей и эстетическим нонконформизмом. Реакция Бродского на западные путешествия ярко это демонстрирует. Он постоянно перемещается между аутентично-имперским европейским прошлым и современными имперскими реалиями двух супердержав, СССР и США, между эстетическими нормами неоклассического прошлого и современным отсутствием нормы, между модернистской цельностью и постмодернистской разъятостью субъекта. Присутствие отсутствующего – европейского имперского прошлого, неоклассической эстетической нормы, модернистского субъекта – создает ироническое, но в то же время ностальгическое отношение, характерное для путевой прозы и поэзии Бродского, в которой преломляется множество мужских идентичностей, характерных для канонических литературных путешествий: джентльмен-путешественник, введенный в русскую литературу Фонвизиным, Карамзиным и Радищевым, лирический образ русского романтического поэта на фоне Кавказа и Черного моря, русский писатель-турист в Европе, особенно в Италии, от Вяземского до Ходасевича, и, наконец, странствующий англоязычный писатель-модернист – Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй и У.Х. Оден. Лирический герой путевых стихов Бродского и странствующий автор-мужчина его прозы определены этими литературными характерами.
Темы империи, туризма и ностальгии так или иначе выходят на первый план в текстах о путешествиях, написанных Бродским после эмиграции. Я рассматриваю, как эти понятия в его путевой прозе и поэзии преломляются в системе тропов, стратегиях конструирования идентичности и политике репрезентации. Я использую и концептуализирую понятие империи, исходя прежде всего из понимания его в контексте представления о дискурсивной практике. Я фокусируюсь не на экономических, военных или политических аспектах этого понятия, а на том, как империи представлены и выражены в литературных и культурных практиках28. Ностальгия возникает в путевых текстах Бродского как ответ на многие недостающие вещи, которые он отмечает в постколониальном/постмодернистском мире за пределами Советского Союза, и ей часто сопутствует ирония. Линда Хатчин отмечает в своем эссе об иронии и ностальгии в эстетике постмодерна, что они часто идут рука об руку – не как «характеристики объекта», но как «отклик субъекта – активного, эмоционально и интеллектуально вовлеченного»29. В случае Бродского ностальгия является первичным откликом, тогда как ирония часто появляется как реакция на ностальгию. Его ирония – интеллектуальная стратегия и средство репрезентации того, что Сьюзен Стюарт назвала «ненасытными требованиями ностальгии»30. Иронизирование над ностальгией в литературных путешествиях Бродского – это его способ реакции на анахронизм собственной позиции как субъекта. Это результат осознания того, что позиция литературного изгнанника и странствующего писателя, занимавшая центральное место в высокой культуре модернизма, поставлена под сомнение в эпоху постмодернистского туризма и глобальной массовой миграции.
Тема ностальгии ставит вопрос о месте Бродского в модернистской/постмодернистской парадигме, которое ряд исследователей рассматривал с позиции русских культурных практик. Многие из этих ученых отвергали постмодернизм как методологическую рамку для обсуждения творчества Бродского, тогда как другие объявляли Бродского «предшественником» русского постмодернизма31. Мой подход к проблеме постмодерна/постмодернизма связан с помещением Бродского скорее в контекст постмодерна, а не в постмодернистский контекст; как отмечал Томас Эпштейн, «постмодернизм как таковой – это часть большей культурной парадигмы, Постмодерна, отмеченного чувством фрагментации и исторического распада или перехода, на которые художники разных направлений (Иосиф Бродский – всего лишь один говорящий пример) реагировали каждый на свой лад»32. Другими словами, когда встает вопрос о постмодерне/постмодернизме, данная книга обращается главным образом к тому, как Бродский реагировал на «состояние постмодерна», с которым он столкнулся на Западе, и как это отразилось в текстах его путешествий33.
Основываясь на этих теоретических и методологических предпосылках, в главе 1 я прослеживаю развитие модернистского и постмодернистского дискурса перемещения и исследую, как модернистская метафорика путешествий влияет на поэтическое воображение Бродского и на позицию лирического субъекта начиная с ранних поэтических произведений. В стихах, написанных Бродским в Советском Союзе, его лирическая идентичность конструируется с помощью образов, почерпнутых в романтической и модернистской традиции индивидуализма и отчуждения, тогда как в произведениях, созданных после 1972 года, индивидуализм и цельность авторской идентичности сталкиваются с вызовами современного туристического мира. Риторика амнезии, к которой он прибегает в своем бразильском травелоге «После путешествия, или Посвящается позвоночнику» («After a Journey, or Homage to Vertebrae»), – лишь один из примеров того, как Бродский развертывает идею, что развитие туризма угрожает литературе и творческому началу писателя, – мысль, завершающая стихотворение «К Евгению», предпоследнее в «Мексиканском дивертисменте».
Отношение между понятиями империи и туризма, ключевое для современного литературного туризма, манифестировано в путевой прозе и поэзии Бродского, особенно когда он сталкивается с неевропейскими территориями, рождающими напряжение между дискурсами метрополии и периферийного по отношению к ней мира. Эстетические идеалы и культурные мифы, которые Бродский реконструирует в «Путеводителе по переименованному городу» и которые анализируются во второй главе, вырастают из русского имперского дискурса XVIII века и базируются на вере в превосходство достижений европейской культуры и в способность России перенять эти достижения. Эти идеологические предпосылки, связанные с политикой имперской ностальгии, на которую опирается Бродский, предстают с другой стороны, когда он переносит их на территории за пределами Европы и США в мексиканском поэтическом травелоге и прозе о Бразилии. В этих латиноамериканских впечатлениях, подробно обсуждаемых в главах 3 и 4, Бродский постоянно движется между двумя представлениями об империи – ностальгической тягой к имперскому наследию России и Европы и отталкиванием от советского наследия. Именно напряжение между этими двумя полюсами является главной проблемой его столкновения с постколониальной реальностью. В «Гуернаваке», первом стихотворении мексиканского цикла, Бродский переносит русскую элегическую идентичность XIX века в постколониальные декорации. Его постколониальная элегия историзирует элегический жанр, и через ностальгическое отношение к жанру в стихотворении создается ностальгическое отношение к имперской и колониальной эпохе, более того, к представлению об империи, которое создавала русская и европейская элегия этой эпохи. В «После путешествия…» сожаление о европейском колониальном прошлом выражено с помощью стратегий репрезентации, которые очень похожи на то, что Мэри Луиза Пратт описала как «раздражительный дискурс метрополии», «тоску по третьему миру», характерные для западной литературы путешествий в 1960–1970-е и связанные с деколонизацией стран Африки и освободительными движениями в обеих Америках34. Что отличает, однако, Бродского от его европейских и североамериканских современников – это историческая перспектива, которую дает ему опыт постутопического общества в СССР, удваивающий авторитарность его взгляда на третий мир. Именно такую точку зрения он выбирает, создавая собственную авторскую субъективность, связанную с метрополией. Это, однако, ставит его в неоднозначную ситуацию, поскольку он понимает, что для некоторой части западного общества его легитимность как писателя метрополии сомнительна.
Тема «отсутствия истории» – одна из центральных в дискурсе путешествий в постколониальную эру, и Бродский обращается к ней в шутливой строчке из стихотворения на случай «Рио Самба», в которой Бразилия представлена как место без исторического значения35. Эта метафора является центральной в «Путешествии в Стамбул», одном из самых противоречивых эссе поэта. Мое прочтение восточного путешествия Бродского в главе 5 опирается прежде всего на «Ориентализм» Эдварда Саида, который был, как я показываю, отправной точкой для полемического эссе Бродского. Когда Бродский направляет свой художественный талант на описание Стамбула, его ироническое отстранение от того, что он видит и с чем сталкивается, накладывается на участие в полемической дискуссии о русском и западном восприятии Востока, а также связано со спором о месте России на оси Восток – Запад. Несмотря на самоироничную игру с литературными конвенциями и постоянные дискурсивные осложнения, характерные для письма Бродского, уверенный голос автора и его авторитарная точка зрения создают целостную воображаемую географию и историю «Востока» и «Запада», в метафизической иерархии которых Запад равняется времени, а Восток – пространству, и это регулярно встречающаяся тема в мифе ориентализма. В конечном счете пренебрежительное присвоение Бродским европоцентристской заносчивости порождает его собственное конструирование идентичности в воображаемой «контактной зоне» двух центральных культур – восточной и западной36. Зная, что Россия бросает вызов дихотомии Запад – Восток, повествователь эссе Бродского использует лиминальность своей русской идентичности для утверждения собственных мнений о Востоке и Западе и для опровержения критики этой дихотомии, высказанной Саидом и другими авторами.
Если конструирование собственной идентичности Бродским было обсуждено в основном на примере его путешествия в Стамбул, его письменная встреча с Венецией дала ему дискурсивное пространство, в котором можно было реализовать себя как иммигранта, используя положительные культурные модели. Стихотворения Бродского о Венеции, написанные по-русски, реконструируют русский венециофильский дискурс, если использовать термин, введенный в работах Джона Пэмбла, английского историка, писавшего о британском восприятии Венеции. Призыв Бродского к сохранению города в «Набережной неисцелимых» звучит как задача сохранения наследия, вложенного в Венецию поколениями русской, европейской и американской имперской культуры. Но прежде всего Бродский исследует в своем эссе не столько смыслы, относящиеся к «мировому наследию», сколько значение Венеции лично для него. Нарратив тоски, который создает Бродский, начиная с подробных воспоминаний первого знакомства с Венецией еще в Советском Союзе, демонстрирует, как акмеистическая формула «тоска по мировой культуре» превратилась в «тоску по ленинградской культуре». Рефлексивное стремление из периферийной России к центрам западной культуры совершило полный круг и превратилось из тоски по постколониальному, популяризованному, деканонизированному и деконструированному Западу в тоску по идеальной России с (западными) канонами, иерархиями и неизменными идентичностями. Стихотворения о Венеции, которые Бродский написал по-русски между 1973 и 1995 годами, говорят о его превращении из советского эмигранта и ленинградского поэта в русско-американского автора и интеллектуала метрополии. Частичная автобиография в «Набережной неисцелимых», написанная по-английски, показывает тот же процесс. Отталкиваясь от теоретических размышлений Хоми Бабы, в главе 6 я анализирую отдельные стихотворения венецианского цикла, фокусируясь прежде всего на многочисленных интертекстуальных отсылках, демонстрирующих культурный уровень автора. Если прочесть эти стихотворения перед «Набережной неисцелимых», видно, что эссе представляет собой своего рода затрудненный для понимания перевод стихотворений на английский язык, при котором культурные различия скорее создаются, чем преодолеваются. В геополитическом пейзаже эпохи постколониального постмодерна Венеция стала местом, где лирический герой Бродского смог заново создать себя. Венеция «Набережной неисцелимых» становится промежуточным пространством, или, используя термин, который ввел Хоми Баба, «третьим пространством» – местом повторного открытия и создания, где неизменная идентичность превращается в гибридную и более текучую субъективность37.
1. ИЗГНАННИК, ТУРИСТ, ПУТЕШЕСТВЕННИК
Первые критические подходы к текстам-путешествиям Бродского после 1972 года несли на себе печать модернистской мистификации изгнания38. Опираясь на поэтические сравнения, сделанные самим Бродским, исследователи неоднократно повторяли те же литературные параллели и культурные отсылки: Улисс, Овидий, Данте, Пушкин, Мандельштам – канонизированные прототипы русских и западных литературных изгнанников. Петр Вайль в обзоре того, что он называет жанром путешествия у Бродского, подчеркивает такой подход: «Все дело в том, что Иосиф Бродский – не только путешественник, но и изгнанник (литературный ориентир тут – опять-таки житель Вечного города, Овидий»39. Джордж Клайн рассматривает поэтические травелоги Бродского, посвященные различным европейским городам, с той же точки зрения и замечает, цитируя Льва Лосева, как в этих «стихах изгнания»40 «то здесь, то там появляется локальный колорит всех этих мест – прежде всего их архитектуры. Но, – как отмечает Лосев, – путешественник или турист существенно отличаются от изгнанника по своей роли и статусу, несмотря на то что все они находятся вдали от дома. Путешественник смотрит вокруг жадными глазами, взгляд изгнанника направлен скорее внутрь себя, на удаляющийся образ родины. Путешественник видит разные страны, изгнанник только одну – не-родину. Несмотря на глобальные перемещения Бродского после июня 1972 года, – заключает Лосев, – он не путешествовал, а просто жил в изгнании»41. В коротком обзоре поэтического цикла «В Англии» Джеральд Смит не говорит о мироощущении Бродского как изгнанника, но и туристом его назвать не готов: «мы слышим скорее не голос туриста, а голос человека, знакомого с размеренной английской жизнью»42. Рассуждая об эссе «Путешествие в Стамбул», Дэвид Бетеа замечает, что «Бродский прибывает в Стамбул не как западный турист или журналист, а как запоздалый представитель мандельштамовской Эллады»43. Это замечание представляется верным с точки зрения создания Бродским собственной идентичности и корней этой идентичности; кроме того, сопоставление Бродского и Мандельштама подчеркивает статус Бродского как писателя в изгнании и его принадлежность к традиции русского модернизма. Однако это высказывание игнорирует значение эссе Бродского о путешествии в Стамбул как примера современного литературного туризма.
Кроме биографического факта изгнания Бродского, приведенные трактовки отталкиваются от модернистского понимания литературы, в котором изгнание, литература и авторская субъективность неразделимо связаны. В модернистском понимании литература предстает метафизической страной, населенной перемещенными писателями, которые становятся ее гражданами, и сам факт их перемещения становится идеологической предпосылкой творчества, а творчество проливает свет на их изгнание. Другими словами, изгнание стимулирует творчество. Малкольм Брэдбери обобщает эту метафизическую связь модернизма и изгнания в эссе «Города модернизма», включенном в антологию «Модернизм 1890–1930»:
Установка значительной части искусства модернизма связана с некоторого рода перспективой, обусловленной позой изгнанника, – удаление от родной почвы, специфические обязательства, налагаемые ролью в другой культуре <…> Часто в результате эмиграции или изгнания возникает своего рода модернистская страна искусств, изъезженная многими замечательными писателями, среди которых Джойс, Лоуренс, Манн, Брехт, Оден, Набоков. У этой страны свой язык, география, общество, местоположение – Цюрих во время Первой мировой войны, Нью-Йорк во время Второй. Писатель становится членом странствующей в поисках культуры группы либо после насильственного изгнания (как Набоков после русской революции), либо по стечению обстоятельств или собственному желанию. Место, где возникает искусство, может стать идеальным далеким городом, где творца уважают, хаос плодотворен, Weltgeist чувствуется во всем44.
Бродский и сам неоднократно использует схожую географическую метафору для разговора о модернизме. Один из примеров – открытое письмо, опубликованное в «New York Times Magazine» в октябре 1972 года, через несколько месяцев после того, как Бродский переехал в США и начал преподавать в Мичиганском университете. Письмо стало одной из первых попыток Бродского осмыслить собственную эмиграцию и статус изгнанника в письменной форме. Оно было опубликовано как часть восьмистраничной статьи, представлявшей Бродского американской аудитории, в которую также входил отрывок из записей Фриды Вигдоровой, сделанных во время суда в 1964 году, и три фотографии поэта. Все вместе было озаглавлено фразой из письма Бродского: «Писатель – одинокий путешественник». Текст под двумя фотографиями Бродского, помещенными рядом с этим заголовком, гласил: «Путешественник: Бродский в 1964 году (вверху) во время ссылки в Архангельскую область и в Мичиганском университете, где он занял позицию состоящего при университете поэта». Вторая фотография изображала Бродского, бросающего фрисби на кампусе университета. Само письмо – трогательное свидетельство недавней эмиграции автора с неизбежными трагическими нотами, характеризующими позицию, которая впоследствии стала отличительной для текстов Бродского об изгнании. В нем возникает поза «иностранца» или «диссидента», как Юлия Кристева характеризовала перемещенных интеллектуалов в своей работе 1984 года «Новый тип интеллектуала: Диссидент». Держась в стороне, безразличный и высокомерный в собственном стремлении скрыть «тайные раны», «иностранец», как пишет Кристева, «держится за то, чего ему не хватает, за отсутствие»45. Бродский в своем письме провокативно использует модернистские образы перемещения и словарь литературы путешествий:
Я приехал в Америку и буду здесь жить. Надеюсь, что смогу заниматься своим делом, то есть сочинительством, как и прежде. Я увидел новую землю, но не новое небо. Разумеется, будущее внушает бóльшие опасения, чем когда бы то ни было. Ибо если прежде я не мог писать, это объяснялось обстоятельствами скорее внутренними, чем внешними. Сомнения, которые овладевали мною и приводили время от времени к молчанию, я думаю, знакомы каждому сколько-нибудь серьезному литератору. Это скверное время, когда кажется, что все, что ты мог сделать, сделано, что больше нечего сказать, что ты исчерпал себя, что хорошо знаешь цену своим приемам; что твоя литература лучше, чем ты сам. В результате наступает некоторый паралич. От сомнений такого рода я не буду избавлен и в будущем, я это знаю. И более или менее к этому готов, ибо, мне кажется, знаю, как с этим бороться. Но я предвижу и другие поводы для паралича: наличие иной языковой среды. Я не думаю, что это может разрушить сознание, но мешать его работе – может. Даже не наличие новой, но отсутствие старой. Для того чтобы писать на языке хорошо, надо слышать его – в пивных, в трамваях, в гастрономе. Как с этим бороться, я еще не придумал. Но надеюсь, что язык путешествует вместе с человеком. И надеюсь, что доставлю русский язык в то место, куда прибуду сам. На все, в конце концов, воля Божья. Перефразируя одного немецкого писателя, оказавшегося тридцать пять лет назад в похожей ситуации: «Die Russische Dichtung ist da wo ich bin» (СИБ2, 7, 70–71)46.