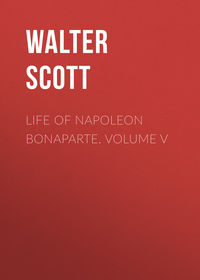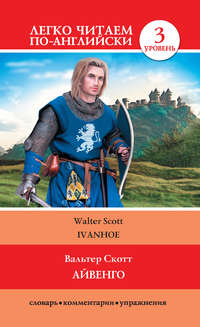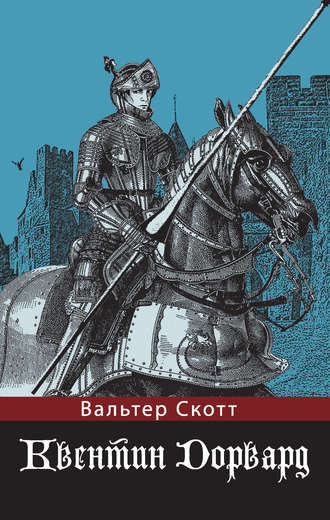
Полная версия
Квентин Дорвард
– Ты рассуждаешь как легкомысленный мальчишка, милый племянник. Впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз. Я представлял себе короля не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом[40] или как Роберт Брюс либо Уильям Уоллес[41] в наших правдивых историях Барбера и Минстрела. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме бланманже… А хочешь, я тебе шепну на ушко: все это бредни, лунный свет на воде… Политика, братец, политика – вот в чем сила! Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство, которое создал французский король, искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его не носит и часто одевается проще, чем это подобает даже мне.
– Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка, – заметил Дорвард. – Понятно, что, если уж я вынужден служить на чужой стороне, мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя.
– Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, племянник, только ты-то сам мало еще смыслишь в этих делах. Герцог Бургундский – смельчак, человек горячий и вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить! Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей и вассалов из Артуа и Эно; но неужели ты думаешь, что, служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством? Отстань мы от них хоть на шаг, нас, не задумываясь, обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного прево,[42] держись мы наравне с ними – это нашли бы только правильным и самое большее сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб; а если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья – что и трудно и очень опасно в схватках, где каждый спасает свою жизнь, – что ж, светлейший герцог сказал бы, наверно, на своем фламандском наречии,[43] как он всегда говорит, когда видит ловкий удар: «Gut getroffen![44] Молодчина шотландец! Дать ему флорин: пусть выпьет за наше здоровье!» – и больше ничего! Если ты чужестранец, ничего не жди на службе у герцога – ни высокого чина, ни земель, ни денег: все это достается только своим, только сынам родной земли.
– А кому же еще оно может достаться, дядюшка? – воскликнул Дорвард.
– Тем, кто защищает этих сынов! – ответил Меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан. – Король Людовик рассуждает так: «Ты, простофиля Жак, добрый мой крестьянин, знай свое дело – свой плуг, свою борону, свою кирку или лопату, – а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота – заплатить за их труд из своего кармана, и только… А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может завести вас на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки и с ними мой честный Людовик Меченый; они будут сражаться не хуже, если не лучше вас со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Креси и Азенкуре».[45] Ну что, теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличия и на высокие почести?
– Понятно-то понятно, дядюшка, – ответил Дорвард, – только, на мой взгляд, нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить летние дни и зимние ночи на стенах крепости, в железной клетке, да еще на запоре, чтоб ты не сбежал, – это жизнь для лентяев… Эх, дядя, ведь это все равно что быть соколом, которого держат на насесте и никогда не берут на охоту!
– Клянусь святым Мартином Турским, мальчик-то с огоньком! Сейчас видна кровь Лесли: ни дать ни взять, я сам в его годы, только у этого, пожалуй, еще больше безрассудства. Слушай же хорошенько, племянник, что я тебе скажу, – и да здравствует король Франции! Не проходит дня, чтобы нам не давали поручений, исполняя которые можно добыть и славу, и деньги. Не думай, что самые опасные и смелые подвиги делаются только при свете дня. Я мог бы тебе привести не один пример, вроде нападений на замки, захвата пленных и тому подобных дел, когда некто – я не стану называть его имени – подвергался страшной опасности и заслужил большие милости, чем самые бесстрашные головорезы бесстрашного герцога Бургундского. И если его величеству угодно при этом держаться в тени, тем беспристрастнее может он оценить смелые подвиги, в которых сам не принимает участия, и тем справедливее наградить отличившихся воинов. Да, это мудрый монарх и тонкий политик!
Дорвард несколько минут хранил молчание и наконец тихо, но выразительно сказал:
– Добрый отец Петр часто поучал меня, что подвиги, в которых нет славы, могут быть пагубны. Мне, конечно, нет надобности спрашивать вас, дядюшка, всегда ли согласны с правилами чести эти тайные поручения.
– За кого ты меня принимаешь, племянник? – строго спросил Меченый. – Правда, я не воспитывался в монастыре и не умею ни читать, ни писать, но я – брат твоей матери, честный Лесли. Неужели ты думаешь, что я мог бы предложить тебе что-нибудь бесчестное? Сам Дюгеклен,[46] славнейший из рыцарей Франции, будь он жив, гордился бы моими подвигами.
– Я верю вам, дядюшка, верю каждому вашему слову! – сказал юноша с жаром. – Ведь вы мой единственный родственник. Но правду ли рассказывают, будто у короля здесь, в Плесси, такой странный двор? Правда ли, что при нем нет ни рыцарей, ни дворян, никого из его славных вассалов? Что свои редкие развлечения он делит со слугами замка и держит тайные советы с самыми темными и неизвестными людьми? Правда ли, что он унижает дворян и покровительствует людям низкого происхождения? Все это странно и мало напоминает его отца, благородного Карла,[47] вырвавшего из когтей английского льва наполовину завоеванную им Францию.
– Ты рассуждаешь как малый ребенок, – ответил Меченый, – и, как ребенок, поешь все ту же песню на новый лад. Посуди сам: если король даже и пользуется услугами своего цирюльника Оливье в таких делах, которые тот выполняет лучше всякого пэра, разве государство не выигрывает от этого? Если он поручает всесильному начальнику полиции Тристану арестовать такого-то мятежного горожанина или такого-то беспокойного дворянина, то он уж знает, что приказание его будет сейчас же исполнено, и делу конец. А попробуй-ка он дать подобное поручение какому-нибудь герцогу или пэру, так тот в ответ пришлет ему, пожалуй, вызов! И если опять-таки королю угодно возложить какое-нибудь дело на Людовика Меченого, который в точности все исполнит, а не на великого коннетабля, который может все провалить, разве, по-твоему, это не доказательство его мудрости? А главное, разве не такой именно господин и нужен нашему брату, искателям счастья, которые должны служить там, где их больше ценят и лучше вознаграждают за труды? Так-то, мой мальчик… Верь мне: Людовик, как никто, умеет выбирать своих приближенных и каждому, как говорится, давать ношу по плечу. Это не то что король Кастильский, погибший от жажды только потому, что возле него не случилось кравчего, чтобы вовремя подать ему напиться… Но что это? Кажется, звонят у святого Мартина! Я должен спешить в замок. Прощай! Желаю тебе веселиться, а завтра в восемь часов приходи к подъемному мосту и попроси часового, чтобы вызвал меня. Да смотри будь осторожен, держись середины дороги, не то как раз угодишь в капкан и останешься без руки или без ноги. А тогда жалей не жалей – уж будет поздно. Скоро ты увидишь короля, тогда и сам научишься ценить его по достоинству… Прощай!
С этими словами Меченый поспешно вышел из комнаты, позабыв второпях расплатиться за выпитое вино – рассеянность, часто присущая людям такого склада. А сам хозяин, которого, вероятно, смутили перья, развевавшиеся на шляпе гостя, а может быть, его тяжелый меч, не осмелился напомнить о его забывчивости.
Читатель, вероятно, думает, что, как только Дорвард остался один, он поспешил в свою башенку, в надежде еще раз насладиться звуками волшебной музыки, навеявшей на него поутру такие сладкие грезы. Но то была глава из поэмы, тогда как свидание с дядей открыло ему страницу действительной жизни, а жизнь подчас куда как не сладка! Размышления, вызванные разговором с дядей, так захватили юношу, что вытеснили из его головы все другие мысли, не говоря уж о нежных мечтах.
Квентин решил пойти прогуляться по берегу быстрого Шера. Расспросив предварительно хозяина, по какой дороге можно пройти к речке, не боясь попасть невзначай в западню или в капкан, он отправился в путь, стараясь разобраться в путанице осаждавших его мыслей и остановиться на каком-нибудь решении, ибо свидание с дядей нисколько не рассеяло его сомнений.
Глава VI
Цыгане
Так весело,ОтчаянноШел к виселице он.В последний часВ последний плясПустился Макферсон.Старинная песня[48]Воспитание, полученное Квентином Дорвардом, не могло способствовать смягчению его сердца и развитию высоких нравственных чувств. Как и все в его семье, он считал охоту лучшим развлечением, а войну – единственным серьезным делом. Всем Дорвардам с детства внушали, что их первый долг – это стойко выносить несчастья и жестоко мстить врагам-феодалам, истребившим весь их род почти поголовно. Однако эта наследственная ненависть смягчалась в Дорвардах их рыцарским благородством и чувством справедливости: поэтому даже в деле мести, которую они считали правосудием, Дорварды отличались некоторой гуманностью и великодушием. Наставления старого монаха, которые Квентин выслушивал в дни своей болезни и несчастья, подействовали на юношу сильнее, чем можно было бы ожидать, будь он здоров и счастлив, и дали ему некоторое понятие об обязанностях человека по отношению к другим. Если же принять в расчет невежественность людей той эпохи, всеобщее преклонение перед военными подвигами и самое воспитание Дорварда, то окажется, что его представление о нравственном долге было значительно выше, чем у многих его современников.
Свидание с дядей смутило и разочаровало его. А он так на него надеялся! В те времена, разумеется, не могло быть и речи о переписке, но часто случалось, что какой-нибудь пилигрим, странствующий купец или инвалид-воин приносил в Глен-хулакин вести о Людовике Лесли. И сколько раз, бывало, слушал маленький Дорвард рассказы о его удачах и несокрушимой храбрости! Воображение мальчика создало яркий образ этого далекого, смелого и славного дяди, чьи подвиги восхвалялись рассказчиками, и он представлял его себе одним из воспетых менестрелями славных рыцарей, которые мечом и копьем добывали себе короны и завоевывали королевских дочерей. И вот теперь ему пришлось развенчать этого прославленного дядю и усомниться в его рыцарском достоинстве. Однако все еще полный глубокого почтения, внушенного ему с детства к родственникам и ко всем старшим, ослепленный своим прежним чувством к дяде, к тому же молодой, неопытный и страстно преданный памяти горячо любимой матери, Дорвард не мог видеть в ее родном брате того, кем он был в действительности, то есть обыкновенного наемника, не хуже и не лучше большинства людей одной с ним профессии, наводнявших в то время Францию и составлявших одно из многих бедствий этой страны.
Меченый не был жестоким от природы, но привык относиться равнодушно к человеческой жизни и страданиям. Глубоко невежественный, алчный к добыче и неразборчивый в средствах, он в то же время был крайне расточителен, когда дело шло об удовлетворении его страстей. Привычка думать только о себе, заботиться только о своих личных нуждах и интересах сделала его самым эгоистичным животным в мире. Он даже не в состоянии был (как, может быть, уже заметил читатель) говорить о каком-нибудь предмете, чтобы сейчас же не свернуть на себя и не припутать к делу собственную персону. К этому надо еще прибавить, что узкий круг его обязанностей и удовольствий мало-помалу так сильно сузил круг его мыслей, надежд и желаний, что в нем почти угасла жажда славы и подвигов, одушевлявшая его смолоду. Короче говоря, Меченый был самый заурядный, невежественный, грубый, себялюбивый солдат, смелый и решительный в исполнении своего дела, но не признававший ничего больше, кроме разве формального выполнения церковных обрядов, которое иногда разнообразилось веселыми попойками с отцом Бонифацием, первым его приятелем и духовником. Не будь Лесли человеком ограниченным, он мог бы далеко пойти по службе, потому что король, знавший лично каждого стрелка своей шотландской стражи, был вполне уверен в его отваге и преданности. Но, несмотря на некоторую долю природной хитрости и проницательности, благодаря которым Меченый до тонкости изучил характер своего государя и ловко умел к нему подлаживаться, он был так недалек, что никак не мог рассчитывать на повышение. Людовик был всегда особенно ласков и милостив к Меченому, но тот по-прежнему оставался только простым рядовым среди стрелков шотландской гвардии.
Хотя Квентин и не успел еще как следует оценить характер своего дяди, но все же был сильно и неприятно поражен равнодушием, с которым тот отнесся к гибели семьи своего зятя; немало удивило его и то, что такому близкому родственнику не пришло даже в голову предложить ему денег, в которых он так сильно нуждался. Если б не великодушие дядюшки Пьера, он был бы вынужден обратиться за помощью к Лесли. Однако он был несправедлив к своему родственнику, принимая за жадность простой недостаток внимания с его стороны. Меченый не испытывал в ту минуту нужды в деньгах, и ему не пришло в голову, что в них может нуждаться Квентин; иначе он, как добрый родственник, конечно, позаботился бы о своем оставшемся в живых племяннике, как позаботился о спасении душ умершей сестры и зятя. Но каковы бы ни были причины такой невнимательности, Дорварду от этого было не легче, и он не раз пожалел, что не поступил на службу к герцогу Бургундскому, прежде чем успел поссориться с его лесником. «Что бы со мной там ни случилось, – думал Дорвард, – мне оставалось бы хоть утешение, что в случае нужды у меня есть верный друг – дядя. Теперь же, когда я его увидел, у меня нет и этого утешения; какой-то купец, человек совсем мне чужой, отнесся ко мне с большим участием, чем родной брат моей матери, мой земляк, и притом дворянин. Право, можно подумать, что этот удар, обезобразивший его лицо, выпустил из него всю благородную шотландскую кровь».
Дорвард очень жалел, что ему не удалось расспросить своего родственника об этом таинственном дядюшке Пьере; но Меченый засыпал его разными вопросами, а большой колокол святого Мартина так неожиданно прервал их разговор, что молодой человек не выбрал для этого удобной минуты.
«Тот старик с виду груб и суров, а язык у него острый и злой, но он великодушен и щедр, – думал Дорвард. – Такой человек стоит черствого и равнодушного родственника. «Лучше добрый чужой, чем свой, да чужой», как говорит наша шотландская пословица. Непременно его разыщу; это будет нетрудно, если только он так богат, как говорит мой хозяин. По крайней мере он посоветует, как мне быть. А если ему, как купцу, приходится странствовать по чужим краям, отчего бы мне и не поступить к нему? У него на службе встретится не меньше приключений, чем на службе у короля Людовика».
В то время как эти мысли пробегали в голове Квентина, какой-то тайный голос, который звучит порой в нашем сердце помимо нашей воли, нашептывал ему сладкую надежду, что… как знать?.. быть может, и обитательница башенки, незнакомка с лютней и шарфом, присоединится к ним в их интересных странствиях.
В эту минуту Дорвард поравнялся с двумя прохожими почтенной наружности – очевидно, зажиточными турскими горожанами – и, почтительно раскланявшись с ними, вежливо спросил, как ему найти дом дядюшки Пьера.
– Как ты сказал? Чей дом, дружок? – переспросил его один из незнакомцев.
– Дядюшки Пьера, сударь, торговца шелком, который насадил вон ту рощу, – повторил Дорвард свой вопрос.
– Рано же ты набрался нахальства, приятель! – строго заметил незнакомец, который был ближе к нему.
– И плохо выбрал предмет для своих дурацких шуток! – еще строже добавил другой. – Турский синдик не привык к такому обращению заезжих бродяг.
Квентин был до того удивлен, как такой простой и вежливый вопрос мог рассердить этих почтенных людей, что даже не обиделся на грубость их ответа и стоял молча, с изумлением глядя вслед удаляющимся незнакомцам, которые прибавили шагу и шли, беспрестанно оглядываясь на него, точно старались как можно скорее уйти подальше.
Немного погодя Дорварду попались навстречу несколько крестьян-виноделов, и он обратился к ним с тем же вопросом. Они стали расспрашивать, какого дядюшку Пьера ему нужно: школьного учителя, церковного старосту или столяра; назвали еще с полдюжины других Пьеров, но ни один из них не походил по описанию на того, которого искал Дорвард. Это рассердило крестьян: им показалось, что молодой человек подшучивает над ними, и они накинулись на него с бранью, грозя от слов перейти к делу; но самый старший из них, пользовавшийся, по-видимому, некоторым влиянием у товарищей, остановил их.
– Разве вы не видите по его говору и по дурацкому колпаку, что он за птица? – сказал старик. – Это какой-нибудь заезжий штукарь, фокусник или гадальщик… кто их там разберет, и почем знать, какую он может сыграть с нами штуку! Слыхал я об одном таком проходимце: он заплатил лиард[49] бедняку крестьянину, чтоб тот ему позволил поесть вволю винограду в своем саду. И что ж бы вы думали: он съел, не расстегнув ни одной пуговицы жилета, столько винограду, что можно было бы нагрузить целый воз… Ну его, пусть себе идет своей дорогой, а мы пойдем своей – так-то будет лучше!.. А ты, брат, коли не хочешь худа, ступай себе с богом и оставь нас в покое с твоим дядюшкой Пьером. Почем мы знаем – может быть, ты зовешь так самого черта!
Видя, что сила не на его стороне, Дорвард счел за лучшее молча удалиться. Крестьяне, которые в ужасе попятились было от него при одном намеке, что он колдун, теперь, очутившись на почтительном расстоянии, набрались храбрости и стали кричать ему вслед всевозможные ругательства, а потом запустили в него целым градом камней, которые, впрочем, не могли причинить ему вреда, так как падали, не долетая до цели. Продолжая свой путь, Квентин стал думать, что либо он попал под власть каких-нибудь злых чар, либо жители Турени – самый глупый, грубый и негостеприимный народ во всей Франции. Случившееся вскоре событие не замедлило подтвердить его последнее предположение.
На небольшом пригорке у самого берега быстрого, живописного Шера росло несколько каштанов, образуя отдельную, замечательно красивую группу. Под деревьями столпилась небольшая кучка крестьян, стоявших неподвижно и пристально глазевших вверх на какой-то предмет, скрытый в ветвях ближайшего к ним каштана. Юность редко умеет рассуждать и обыкновенно так же легко поддается малейшему толчку любопытства, как гладкая поверхность тихого пруда – случайно брошенному в него камешку. Квентин ускорил шаги и, легко взбежав на пригорок, увидел ужасное зрелище, привлекшее к себе внимание собравшихся зевак: на одном из деревьев в последних предсмертных судорогах раскачивался повешенный.
– Отчего вы не перережете веревку? – воскликнул юноша, который был так же скор на помощь ближнему, как и на удар за оскорбление.
Один из крестьян повернул к нему свое бледное как мел, искаженное страхом лицо и молча указал на вырезанный на коре дерева значок, имевший такое же отдаленное сходство с цветком лилии, как таинственные, хорошо известные нашим сборщикам податей зарубки – с «широкой стрелой». Ничего не понимая во всем этом и мало заботясь о значении этого символа, Дорвард с легкостью белки взобрался на дерево, вытащил из кармана свой верный «черный нож» – неизбежный спутник каждого горца и охотника – и, крикнув вниз, чтобы кто-нибудь поддержал тело, в один миг перерезал веревку.
Но его человеколюбивый поступок произвел на зрителей совершенно неожиданное впечатление. Вместо того чтобы помочь ему, крестьяне были до того испуганы его смелостью, что все разбежались, словно по команде, как будто присутствие их здесь могло быть сочтено за сообщничество и грозило им опасностью. Тело, никем не поддержанное, тяжело рухнуло на землю, и Квентин, быстро спустившийся с дерева, к прискорбию своему убедился, что в этом человеке угасла последняя искра жизни. Тем не менее он все же попытался привести его в чувство: сняв петлю с шеи несчастного и расстегнув на нем платье, он брызгал водой ему в лицо и делал все, что обыкновенно делают, когда человек теряет сознание.
Он так углубился в свое занятие, что забыл обо всем на свете. Громкие крики на непонятном для него языке скоро заставили его оглянуться, и не успел он опомниться, как уже был окружен какими-то странными людьми, женщинами и мужчинами, и почувствовал, что кто-то крепко держит его за руки. В тот же миг перед ним сверкнул нож.
– Ах ты бледнолицый слуга дьявола! – воскликнул один из мужчин на ломаном французском языке. – Убил его и еще хочешь ограбить! Но ты у нас в руках и поплатишься за это!
При этих словах со всех сторон засверкали ножи, и, оглянувшись, Дорвард увидел, что он окружен свирепыми людьми, уставившимися на него, как волки на добычу.
Однако он не растерялся, и это его спасло.
– Что вы, что вы, опомнитесь! – сказал он. – Если это ваш друг, так ведь я только что собственными руками перерезал петлю, в которой он висел, и вы гораздо лучше сделаете, если попытаетесь вернуть его к жизни, вместо того чтоб угрожать невинному человеку, которому он, может быть, обязан своим спасением.
Между тем женщины окружили умершего и старались привести его в чувство теми же средствами, к каким раньше прибегал Дорвард. Убедившись наконец, что все их усилия бесплодны, они, по восточному обычаю, подняли отчаянный крик и принялись в знак печали рвать свои длинные черные волосы; мужчины же раздирали на себе платье и посыпали голову землей. Они так увлеклись этой церемонией оплакивания умершего, что совсем позабыли о Дорварде, в невинности которого их убедила перерезанная веревка. Самым благоразумным для него было бы, конечно, предоставить теперь этим дикарям предаваться на свободе своему горю и поскорей уйти от них, но Дорвард с детства привык презирать опасности, да и молодое любопытство было слишком задето.
У всех этих странных людей, и женщин, и мужчин, были на головах тюрбаны и колпаки, напоминавшие скорее его собственный головной убор, чем шапки и шляпы, какие носили в то время во Франции. Все они были черны лицом, как африканцы. У многих мужчин были курчавые черные бороды. У двух-трех – по-видимому, начальников – развевались яркие красные, желтые и зеленые шарфы, а в ушах и на шее блестели серебряные украшения; руки и ноги у всех были голые, и все они были очень грязны и оборваны. Дорвард не заметил на них другого оружия, кроме длинных ножей, которыми они недавно ему угрожали, и только один юноша, очень живой и подвижный, горевавший больше всех и громче всех выражавший свою скорбь, был вооружен короткой кривой мавританской саблей, за рукоятку которой он беспрестанно хватался, бормоча невнятные угрозы.
Весь этот беспорядочно столпившийся и предававшийся горю народ так мало походил на людей, которых Дорварду случалось видеть до сих пор, что он готов был принять их за «неверных собак», проклятых сарацин,[50] о которых он слышал и читал в романах как о заклятых врагах каждого благородного рыцаря и каждого христианского государя. Он собирался уже убраться подобру-поздорову подальше от этого опасного соседства, как вдруг послышался конский топот, и на людей, принятых им за сарацин, взваливших тем временем на плечи тело своего товарища, налетел отряд французских солдат.
Это неожиданное появление мигом изменило всю картину: заунывные вопли перешли в дикие крики ужаса. Мгновенно мертвое тело оказалось на земле, а толпа бросилась врассыпную, со змеиной ловкостью и проворством ускользая под брюхом лошадей от направленных на нее копий.
– Бей проклятых язычников!.. Хватай, коли, руби! Дави их как собак! – раздавались яростные крики.
Но беглецы скрылись так быстро, да и самое место, поросшее молодым лесом и мелким кустарником, так затрудняло движения всадников, что им удалось свалить с ног и взять в плен только двоих. Один из пойманных был юноша с кривой саблей; он сдался только после отчаянного сопротивления. Квентина, на которого, казалось, в последнее время ополчилась сама судьба, тоже схватили и, несмотря на его горячий протест, тут же крепко связали, причем солдаты выказали такую ловкость и проворство, которые ясно доказывали, что подобные расправы были им не в новинку.
Квентин с беспокойством взглянул на начальника отряда, от которого надеялся получить свободу, и, не зная, радоваться ему или бояться, узнал в нем угрюмого и молчаливого товарища дядюшки Пьера. Конечно, в каких бы преступлениях ни обвиняли этих людей, он не мог не знать из утреннего приключения, что Дорвард не имеет с ними ничего общего; однако трудно было сказать, захочет ли этот зловещий человек быть для него справедливым судьей и беспристрастным свидетелем, и Дорвард не был уверен, что он улучшит свое положение, если обратится к нему за помощью.