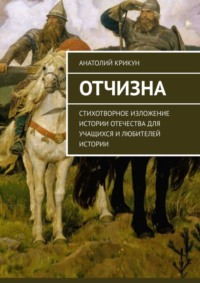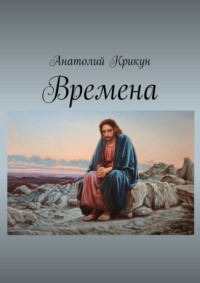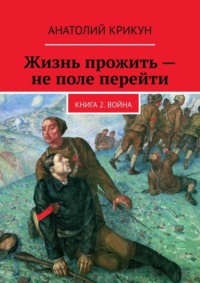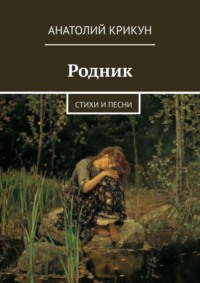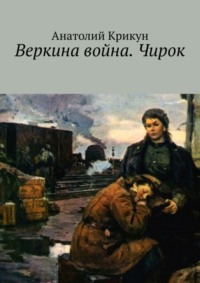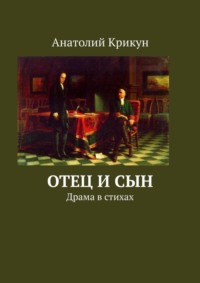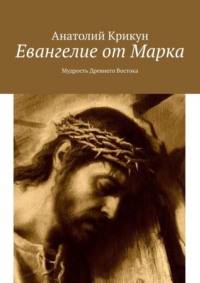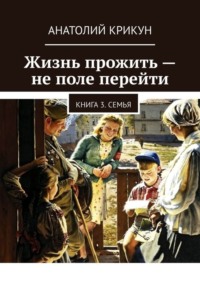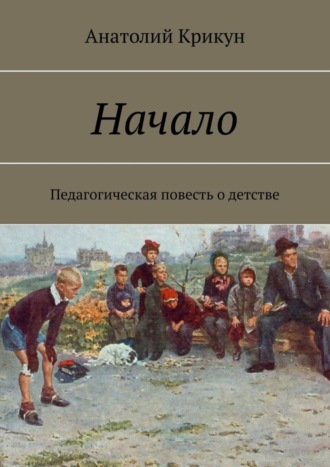
Полная версия
Начало. Педагогическая повесть о детстве
Моя украинская бабушка, которую удалось увидеть ненадолго, лишь несколько раз, когда она из аппетитного села Борщовки, что привольно расположилось на полях Харьковщины, приезжала в Уфу. Когда её дети уже выросли и остепенились она могла позволить себе далёкое, нелёгкое путешествие зимой, когда на селе меньше работ и хлопот, хотя боялась железной дороги и появиться в нашей городской однокомнатной квартире на пятерых жильцов и уместиться на ночь на широком диване вместе с тремя мальчишками. Предварительно приходила телеграмма, и мы с нетерпением ждали встречу, рассматривая фотографии, где бабушка снята со своими многочисленными детьми. Её старший сын, ставший таковым после смерти на проклинаемой ей войне, унесшей первенца и мужа, не захотел возвращаться на родину, а свил свое гнездо на не порушено войной, привольной земле Южного Урала, которую он полюбил так же как и мою мать, имевшую и малороссийские корни в своем роду. После первого приезда бабушки Ани, именем которой отец назвал своего последнего ребёнка, четвертого по счету, появившемуся на свет когда матери уже было за сорок лет и я заканчивал школу и готовился- и в рабочие, как отец, и в студенты как многие одноклассники, и которую мы -три брата, совершенно не ожидали, но любили и баловали, мы уже с нетерпением ждали далёкую бабушку. Мы заранее предвкушали – сколько радости своими подарками, любовно собранными всей ее большой семьёй, она принесет нам. С нетерпением ждали её домашних, ни с чем не сравнимых угощений, абольше всего ее рассказов о войне, что нам пообещал отец, сам о годах войны нам не рассказывавший. После её первого визита мы – уже повзрослевшие, и больше расспрашивали, и больше запомнили её яркие, продолжительные рассказы о своей жизни- основу которой составлял бесконечный труд в заботах о своих детях, которых у неё было аж восемь, на одного больше чем у бабушки Марии. В жизни и судьбе обеих бабушек было много общего. В её рассказах о семье чувствовалась такая страстная любовь, которая только и может поддерживать человека в тяжелое время. «Мой Коленька, мой Гришенька, мое золотко» -только так она называла своих детей и нас внучат. Муж её, украинский мужик-землероб, в начале войны ушел бить врага уже топтавшего землю Украины. Пришло несколько писем, а потом связьПрервалась- фронт двигался слишком стремительно и люди в шинелях сгорали в пламени войны так же быстро и бесследно как сухие несжатые хлеба от пожарищ. Двух старших сыновей мобилизовали в армию. Мой отец оказался в военном училище. «Мишенька» остался только на фотографии с моим отцом, сделанной во время войны на их встрече- когда воину казачьего полка был предоставлен отпуск по ранению и он не мог попасть на оккупированную немцами родину, но смог отыскать в тылу отца, который окончил Краснохолмское пехотное училище и готовил резервы в тылу. На фото, мой дядя в казачьей кубанке и с медалью на груди, улыбается. Погиб казак уже в конце войны и «Гришенька» остался старшим. О муже своем бабушка узнала после освобождения от фашистской оккупации. На запрос от семьи о судьбе мужа и отца солдата пришло простое сообщение-«Пропал без вести». Где? Когда? Только много лет спустя, после поисков имен погибших солдат в «Книге памяти» Харьковской области появилась запись, что сержант пулемётчик, Крикун Николай Степанович, погиб в оборонительных боях защищая Ростов. Место захоронения неизвестно, как сказано в стихах: «Ни петлички, ни лычки с гимнастёрки моей». Все слёзы бабушка давно выплакала и все рассказы о проклятой войне и оккупации велись напевно и спокойно с порой появляющейся на её лице улыбкой, которой она одаривала внимательных слушателей затаивших дыхание около неё в тесненькой квартирке, и старавшихся не упустить ни одного слова. И за единственным в комнате окном на первом этаже выходящем в сад, в вечерних сумерках во время рассказов и после них не раз мне являлись картины пережитые, когда-то бабушкой. Первое её появление запомнилось так ярко, что и сейчас, спустя, без малого, шестьдесят лет, воскресает из несовершенной памяти как яркое удивительное чудо.
Холодный зимний короткий день подходилк концу, приближалась ночь перед Рождеством после отмеченного Нового года. Мать приоделась в лучшее платье и сделала причёску, чтобы в первый раз предстать перед свекровью в достойном виде. Мы – трое сорванцов, ждали появления далёкой бабушки, сидя на обширной жёлтого цвета тахте с многочисленными подушечками и смотрели на дверь. И вот почти в полночь, в полной тишине слышится, как открывается дверь подъезда и приближаются шаги к квартире, затем открывается дверь квартиры и, вместе с холодным воздухом, рванувшимся к нам через открытую дверь подъезда и открывшуюся дверь квартиры- что была, как раз, напротив двери подъезда, в морозном воздухе появилось непонятное небольшое существо, закутанное в громадный шерстяной платок, скорее похожий на одеяло, скрывающий голову, подвязанный на поясе, закрывавший всю верхнюю часть тела- с головы до щиколоток. Из этого одеяния выглядывал остренький носик и щелочки глаз, отыскивающих нас. «Деточки!» – звучит ее низкий бархатный голос; начинаются объятья, с не успевшей сбросить странную одежду бабушкой. Затем в дверях появляется отец, с расплывшейся от счастья широкой улыбкой на широком лице, с огромным холщёвым мешком за плечами и громадным фанерным старомодным чемоданом – каких я никогда больше не видел. Он – больше смахивал на сундук, и весу в нем было больше трёх пудов. Все семейство загружало кладь и доставляла на вокзал в Балаклею – откуда бабушка, непонятно как, добралась и до нас со своей тяжеленной поклажей. Наверное, половина Борщёвки собирали её в дальнюю дорогу, а бабушка в первый раз ехала на поезде, и везла все лучшее, что могла дать ее щедрая земля и щедрая душа. В уфимских городских магазинах, не отличавшихся разнообразием продукции, деликатесов тогда не наблюдалось. Наконец, избавившись от тяжёлого груза, наверное не тянувшего плечи, отец избавляет бабушку от тяжелого платка, короткого, подбитого ватой пальто, совсем не зимнего по меркам Урала, которое бабушка называла кацевейкой, избавляет от валенок с галошами задубевшими за несколько минут на крепком морозе. Затем новая серия объятий со» сношенькой», как она ласковым, певучим голосом называла мать, и с каждым из нас отдельно. Наконец мы разглядели бабушку: маленькая, худенькая, остроносая и востроглазая с весёлыми глазами и улыбчивым лицом, быстро двигающаяся по тесной квартирке, – она, сразу, заполнила комнату своим скорым, певучим не совсем понятным нам- скорее южнорусским чем чисто украинским говором, и накинулась на нас с новыми ласками. Мать хлопотала за столом на котором появилось особым образом засоленное сало, лакомство для отца, дурманящая воздух домашняя колбаса, разогреваемая на сковороде и уничтожившая все иные запахи, привычные нам и оставившая свое присутствие в нашей квартире и по всей лестничной клетке подъезда, поднявшись до четвертого этажа, что я почувствовал и на следующее утро. А была ещё – домашняя выпечка, какой не найти ни в каком магазине, а так же непременные сладости. У нас -, которые в детстве не были избалованы игрушками, в руках появились незамысловатые игрушки с украинским колоритом. Мне досталась свистулька в виде певчей птицы, которую я немедленно испытал, а потом долго берёг. Второй простенький белый платок, прикрывавший её лоб, бабушка не снимала и даже спала в нем. Ночью мы, с бабушкой и братишкой погодком, размещались на обширной тахте, отец на полу, а мать с младшим братишкой на кровати, чтоб мы не придавили его и он не мешал нам слушать бабушкины рассказы. Наше любопытство привело и к тому, что мы узнали и тайну не снимаемого белого платка. Платок закрывал приличную припухлость на лбу, которая у нее появилась давно, не доверялась врачам, и ласково называлась ей- «гузулей» и которой она не хотела смущать нас. Бабушка Анна внешне полностью расходилась с бабушкой Марией, но как я понимаю сейчас и чувствовал тогда, своим внутренним содержанием была её двойником. Нежность, ласковость, заботливость и теплота исходили от обеих. От обеих я, никогда, не слышал упрёка, окрика, грубого слова, даже нотации и поучения, и не очень приятные для нас «неслухов» просьбы и приказания, произносились ласково. Хотя моя мать припомнила один случай, когда во время одной из гулянок в деревне меня -трехлетнего, кто- то из гостей ради шутки угостил сладенькой кислушкой и я захлебнулся и посинел, Бабушка Мария на своих больных ногах вырвала меня из рук в страхе окруживших меня людей и так тряхнула меня, схватив за ноги и опустив вниз головой, что вся сладенькая дрянь вышла из меня. Так же быстро под её обретший звук металла голос, быстро были выметены все званые и незваные гости. Мои перепуганные, присмиревшие родители получили свою долю грубоватых «комплиментов». Может быть, тогда бабушка в первый раз спасла мою жизнь, которую спасали не раз.
Самыми сладкими часами и минутами, проведенными с бабушкой-хохлушкой, были те, когда она, собрав нас, как клушка цыплят под своё крыло, начинала повествование о виденной и пережитой ей с оставшимися шестью детьми войне целиком разрушившей деревню, а так же полутора годах немецкой оккупации. Линия обороны советских войск оказалась на краю деревни. В деревне остались только старики, женщины и дети, которым некуда было деться и которых, при спешном отступлении, не вывезли. Окопы были спешно вырыты на краю деревни – куда по открытой равнине двигались немецкие войска. Жители попрятались в погреба и, вырытые с помощью бойцов- земляные щели. Несколько дней на этой линии шли бои, и от построек ничего не осталось: скот был угнан ранее, куры, кошки и собаки обезумели и носились по дворам и окопам, припрятанный мелкий скот разбежался по кустам, хаты крытые соломой вспыхивали как спички, гибли невинные люди. В редкие минуты затишья в окопах бойцов появлялись женщины, чтобы покормить бойцов, помочь эвакуировать раненых. Мальчишки приносили воду, собирали стреляные гильзы и просили у солдат стрельнуть в гадов. После отступления советских войск немцы в деревне не появлялись, так как, ни – крова, ни- пищи здесь они найти не могли. Изредка являлись полицаи и пытались отловить подростков, чтобы отправить на работы в Германию, но бабушка как и многие другие, успевала прятать своих детей, кто то, видимо из местных полицаев вовремя предупреждал о готовящихся облавах. Удалось пережить и сохранить здоровыми – всех. Один раз явились хорошо обмундированные, сытые полицаи, чьи разговоры выдавали в них националистов с западных и присоединённых накануне войны новых земель Украины перешедших от разгромленной Гитлером Польши. Согнали молодёжь, изнасиловали девиц и угнали в эшелоны, отправлявшие в Германию крепкую рабочую силу и жирный украинский чернозём. Жить много месяцев с ощущением ужаса, потеряв связь с мужем и двумя сыновьями, призванными в армию- испытание, которого и врагу не пожелаешь.
Что случилось, что ещё могло случиться!? Не обо всём нам следовало знать, чтобы не травмировать своими рассказами о годах войны наши не окрепшие души И то что выжили, не умерли от бескормицы (травой приходилось питаться) и болезни не подкосили – все это подвиг матери, наградой за который явилась безграничная любовь детей и внуков. Мужа с войны не дождалась, и никого другого не приветила. Нам с Украины писала письма и когда, после войны восстановили хозяйство, присылали любовно собранные посылки, на которые мы взаимно отвечали. Мы узнавали, как растут её дети, и радовалось за них. О печалях и трудностях ничего не сообщалось. Отец навещая мать на Украине, куда он не вернулся (служба, женитьба, в Борщёвке – ни кола, ни двора),но всячески ей помогал хотя у самого была орава детей. Из каждой своей поездки на родину отец привозил нам подарки от многочисленной родни, а мы все время спрашивали:" Когда же, наконец, к нам бабушка приедет?» и каждую зиму ожидали её, но встреч было немного.
Последний приезд к нам в Уфу, уже на новую трехкомнатную квартиру, вместо приболевшей бабушки совершил ее сын Николай-дядя Коля, который был тамадой на моей свадьбе и провёл её так что это запомнилось на всю жизнь. Вскоре я увидел никогда не лившего слёз, плачущего навзрыд отца, когда пришло сообщение о смерти любимой бабушки со ставшей родной мне, благодаря бабушке, не близкой Украины.
Так судьба подарила мне двух чудесных бабушек и что то от них, видимо, досталось мне не только в виде благодарной памяти, родной крови, но, надеюсь, и в, формировавшемся- благодаря им, характере, а, может быть, и в моей судьбе. Однолюбки, самоотверженные родители, бескорыстные, преданные, не ропщущие на трудности, несущие свой тяжкий крест и любящие жизнь. Спасибо вам, мои голубки, за всё лучшее, что есть во мне!
МАМА
По ходу моего повествования, я постоянно буду вспоминать её, а сейчас, в рассказе, совсем коротко, поскольку не хватит слов и чувств, чтобы оценить её вклад в моё становление. То- что было в моих бабушках, в полной мере, относится и к ней. Она сделала всё возможное, чтобы защитить своих «детиночек» всех своих детей (так она ласково называла как и бабушка Мария) от любых бед и невзгод; бралась за любую работу, грузила на себя все наши заботы, готова была пожертвовать всем и мы чувствовали это, но не всегда могли это оценить, доставляя ей лишние хлопоты и огорчения. Я не знал ни одного случая, чтобы мать обращалась к врачам или показала что ей тяжело, относилась, ко всем своим детям -ровно и трепетно. В моей памяти множество примеров и доказательств её материнской любви заботы и мудрости.
Когда мать, совершенно неожиданно для всех нас, после долгожданной и радостной встречи со своей младшей сестрой, после долгой разлуки умерла, врачи удивились огромному количеству маленьких шрамов на сердце от перенесенных микроинфарктов. Как она все это скрывала, никому не жалуясь и чего ей это стоило, есть ли в этом и моя вина?
В печальной глубине бездонных серых глаз,
Где затаилась тихая улыбка
Является ко мне, на фото, не спросясь,
Моя родная, милая голубка.
Касанье теплых рук и добрый нежный взгляд
Я чувствую, когда мне в жизни трудно,
Жаль не вернуть назад тот несказанный взгляд,
Что освещал моей минувшей жизни утро.
Уж сколько лет прошло, а сердцу тяжело,
Что только мать-природа в жизни вечна,
И не найти тех слов, что могут передать
Сыновнюю любовь, что бесконечна.
Еще вдвойне больней, чо в суматохе дней
Мы матерям не все тепло отдали,
Пусть нас они простят, их материнский взгляд
И их любовь мы детям передали.
ОТЕЦ
Отца из своего раннего детства я помню смутно, слишком много времени у него занимала служба и не мы с матерью жили при отце, а наоборот, он к нам являлся в деревню где мы проживали в небольшом домике с банькой и огородом и появлялся там в редко являвшиеся отпускные дни, благо воинская часть в которой нёс службу отец находилась недалеко от Черниговки в полувоенном посёлке. Самыми памятными были дни когда топилась банька, а отец на этот случай запасался берёзовыми вениками и нещадно использовал их для того, чтобы изгонять из меня и вскоре появившегося брата хвори и зимой из бани, красных, исхлёстанных веником, визжащих выгонял на снег, где мы с громкими воплями бегали и получали порции снега вдогонку. В отсутствии отца подобные процедуры проделывала с нами мать. Когда же вскоре в семье появился еще ребенок и уже в третий раз опять мужского пола отец получил длительный отпуск и занялся серьёзно обустройством нашего невзрачного домика и нехитрого хозяйства находившегося в упадке и с любовью занялся извечным крестьянским трудом, который он хорошо познал в своем детстве и юности и прекрасно знал цену хлебу и крестьянскому труду в который, как, позднее, оказалось, влюбил и меня. Его мать – бабушка Аня, поведала нам, как в страшный год, который на Украине кто-то назвал «Голодомором», отец спас семью в
вымирающей Борщовке. В деревне не осталось никакой живности: ни кошек, ни собак, которые раньше были в каждом дворе. Народ забыл вкус хлеба, ползли слухи о людоедстве, а я много лет спустя говорил, находясь на Украине говорил со свидетелем который описал мне страшные картины того времени и подтвердил эти факты. На дорогах стояли заградительные военные отряды, в основном тоже состоявших из крестьян, с жестоким приказом- из оголодавших и вымирающих деревень никого не выпускать в города, чтобы не разносить правду о голоде по городам, где голод не так ощущался. До тогдашней административной и индустриальной столицы Украины города Харьков было совсем близко от Борщовки – от районного центра Балаклеи по железной дороге- несколько десятков километров. Доходила молва, что в громадном городе в рабочих столовках, за счёт которых спасали работников более ценных для власти, чем деревенские мужики, бабы и детишки, можно было на свалках пищевых отходов найти картофельные очистки и ещё кое- что, чем можно было заполнить, без большого вреда желудки, в отощавших скелетах, которые вопили о смерти. На семейном совете, состоявшем из бабушки и деда, в отсутствии семерых изголодавшихся детей, было решено отправить отца, которому исполнилось девять лет, пешком в столицу. Старшего Михаила отправлять было нельзя – солдаты из заградительных отрядов, имея жёсткий приказ стрелять и в подростков, могли убить, а остальные дети были не только истощены, но и малы годами и ничем помочь не могли. Солдат кормили по нормам и за ними строго следили, а что было у этих крестьянских парней, одетых в солдатские шинели в душе отвечали политработники своей карьерой и головой. Отца подкормили, как могли и дали в дорогу что смогли, чтобы выдержать трудный путь, строго дали наказ, исходя из неудачного опыта и сообразительности тех, кто до отца пытался добраться до заветной столицы, где есть что пожевать без большого вреда для отощавшего желудка. От железнодорожной станции, что была и центром района и к которой отец дорогу знал, до столичного Харькова тянулась железная дорога по которой потоком шли поезда, которые тщательно проверялись. Нужно было, ориентируясь на дорогу, не приближаясь к ней близко, крайне осторожно, желательно ночью, ориентируясь на стук колёс и бегущие огоньки пассажирских вагонов, добраться до окраины столицы, где и было большинство столовок крупных промышленных предприятий и свалок. Там, роясь в отбросах у рабочих столовок, заполнить тщательно подготовленный мешок со множеством отделений, подогнанными по росту лямками, чтоб удобно висел на худых плечах и не горбил спину, нужно было заполнить всем тем, что найдётся съедобного и подкормиться самому. Строго-настрого было указано, чтобы это бесценное добро не пропало- всё тщательно очищать от мусора, сушилось на солнце по технологии заготовки сухофруктов для компотов- чтобы ветерок продувал и солнце палило. Так и ноша будет легче и продукт сохраннее. Этот вяленый продукт, нельзя было, потом, потерять и под дождём и от нападений других более взрослых сборщиков и от оголодавших собак, которые из – за нашествия людей на свалки потеряли часть своего корма и которые не были съеденными двуногими и разумными существами. Правда, и в городе собаки стали редкостью. Отец о своих странствиях нам не рассказывал, видно тяжело было это вспоминать, но за семейным столом и в годы изобилия я видел как он берег каждую крошку хлеба и возмущался когда мы не доедали той вкуснятины, что готовила нам мать. Зато бабушка описывала этот факт в таких красках, что отец превращался в ангела-хранителя спасшего семью от вымирания. Когда она – с мужем и детьми, узнавшими, куда отправился их братишка, уже отчаялись дождаться ходока в город, и не надеялись на удачу, отец вернулся с показавшимся громадным, но не тяжёлым, благодаря тщательному исполнению инструкций и наказов на дорогу, спасительным мешком. Половина деревни ходила, еле переставляя ноги, опухшие от голода из за чрезмерного употребления воды или -превращались в ходячие скелеты. Приход отца был спасением, хотя самый младший брат спасения не дождался и умер от водянки. Недостаток пищи, в основном состоявшей из травы коры деревьев и листьев, и всего, что может переварить желудок, заменяли водой от которой пухли ноги и тело. Врачей до деревень не допускали и советов по выживанию не давали, а вагоны с зерном за границу по торговым договорам шли, чтоб крестьян загнать в колхозы и газеты не писали о страшном бедствии, которое власти не смогли предотвратить. Власть защищала себя, как, могла и тем давала страшный урок недовольным властью.
Много позднее, вспоминая бабушкины рассказы и занимаясь профессионально историей как наукой, прочитав документы той эпохи, лучше понял почему- нас детей первыми сажали за тесноватый обеденный стол на маленькой кухоньке, где всегда было обязательно что- то вкусное приготовленное матерью щедро и с избытком разложенное на тарелки. Сначала вдоволь ели мы, а потом садились родители, которые укоряли нас что мы плохо едим и оставляем «кусаники» – так они называли недоеденный хлеб и всё недоеденное нами. Все недоеденное отец сгружал в свою тарелку и всё, наложенное сверх меры нам, доедал отец когда мы исчезали из кухни и на упреки матери, что всего вдосталь, как- то по особому смотрел на неё и ничего не говорил сметая правой рукой в левую ладонь крошки хлеба
со стола и бережно отправляя их в рот. Мать тоже прошла через тот страшный голодный год в Башкирии и в урожайной в обычные годы Черниговке, с матерь и вдовой, оставшимися от деда семью сиротами. Она с братьями и сестрами тоже хлебнула лиха сверх меры. Спасителем оказался умерший в 1927 году дед оставивший наследство. Зажиточный дом заполненный множеством вещей- нужных, ценны, памятных. Сначала, избавились от них. Последними, перешли в чужие руки золотые и серебряные Георгиевские кресты моего деда, оказавшимися лишними при советской власти, за которые при царе вдове платили бы приличную пенсию. Эта память о мужестве деда и многочисленные подарки от общества герою войны в виде ценных икон, редких книг, золотой юбилейной медали в честь столетнего юбилея полка и подношений по этому случаю из рук императрицы были обменяны в городе на толкучке на продукты, которые и спасли семью, но все наследство деда, включая и дом перешло в чужие руки. Мои внуки, сейчас, при всеобщем магазинном изобилии с непониманием смотрят на меня, когда я призываю их съедать всё до крошки и сметаю крошки со стола не тряпкой, а рукой в левую ладонь и отправляю в свой рот. Я тоже в раннем детстве знал, что такое- требующий пищи живот.
Отец, на время отпущенный из армии чтоб заняться увеличившейся до пяти человек семьёй с четырьмя иждивенцами, устроился учетчиком в местном колхозе и с утра до ночи мотался, без праздников и выходных дней, чаще всего пешком, по обширным полям с двухметровым аршином для замеров выполненных работ и нехитрой бухгалтерией в офицерской сумке висящей через плечо на левом боку. Денег за эту маяту по жаре, в дождь по грязи и осеню по холодку и на ветру – не платили. Заработок начисляли трудоднями, где часы работы не учитывались. За день труда начисляли натуральную оплату продуктами. По итогам года начислено было четыреста граммов пшена за один трудодень. Все иные продукты должны были являться из личного подворья, на котором не было ни коровы, ни свиньи, зато кормил огород, где гнула спину мать, которая не могла оставить ни на минуту троих сорванцов – мал – мала меньше. Вскоре отца неожиданно для нас отозвали из временного отпуска и мы всей семьёй отправились по новому месту службы отца в Оренбургскую область, на место, которое отец знал по годам войны- Тоцкие военные лагеря- самые крупные и в царской России и в Советском Союзе. Война, вообще, перевернула всю жизнь отца и определила его судьбу, занеся в Башкирию, где он нашёл свою суженую и после войны создал семью, так и оставшись здесь со своим своеобразным говором-смесью русского и малороссийского языка расцвеченного особым «гаканьем».
С началом войны в 1941 году, украинский землероб дедушка Николай, был призван в армию и сразу попал на фронт, а отец со старшим братом как военнообязанные без военной подготовки отправлены в тыл для обучения. Отец, как имеющий школьное образование, был направлен в Краснохолмское пехотное училище после окончания которого направлен для обучения солдат пополнявших армию в качестве офицера- инструктора, и, вот, он опять, но уже не молодой, обремененный семьёй, вернулся туда где начиналась его служба, до боли знакомые и описанные великим писателем России Виктором Астафьевым в романе о войне» Прокляты и убиты». Отец всю жизнь гордился тем, что подготовил в тяжелейших условиях множество бойцов среди которых был и не безызвестный Александр Матросов. Но он и представить не мог, в каких событиях и в каком единственном бою, ему придется участвовать. В 1954 году, вновь вернувшийся на службу, вместе с семьёй оказался в Оренбургской степи, в крупнейшем с царских времён Тоцком военном лагере, Сюда вместе с отцом по приказу с самого верха прибыли дополнительно сорок тысяч военнослужащих, которые в открытом поле на месте предстоящих военных учений рыли окопы, строили укрепления, в изнеможении, в сумасшедшем темпе проводили учения отрабатывая навыки невиданного ранее боя с применением особых мер безопасности. За короткое время быстро промелькнувшего лета солдаты износили три комплект полевой армейской формы расползавшейся от пота и тяжелого учебного труда и две пары сапог. В это время шел уже четвёртый год войны в Корее. Началась она как гражданская, внутри корейская, но в которую втянулись десятки стран под флагом ООН и под руководством американцев, а на стороне северокорейского коммунистического режима сражалось пятьсот тысяч китайцев, а так же летчики и военные специалисты из Советского Союза. Американские генералы, не имея успехов на полях сражений, широко применяли бомбардировки, но несли большие потери от советских лётчиков и зенитчиков, требовали от своего президента, бывшего командующим американскими войсками в Европе во время Второй мировой войны, награжденного Сталиным советским «Орденом Победы», применить против упорных, неподдающихся корейцев потерявших около трёх миллионов воинов и мирных жителей, атомные бомбы. Вождь страны -Сталин не препятствовал возникновению конфликта и проверял на прочность американцев, имея свои планы на этот счёт. Эти далекие от нас события, оказалось, напрямую затронули и нас.