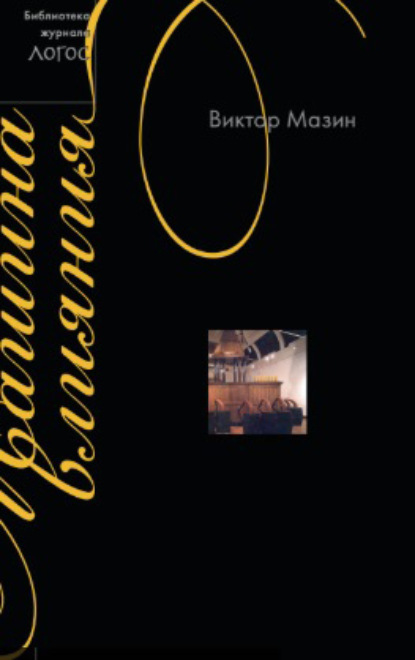Полная версия
Прощай, COVID?
Современный режим знания о болезни: примат внешнего наблюдения и инклюзия больного
Описанная выше конструкция из трех осей может послужить элементарным аналитическим аппаратом, если учесть то, что она должна артикулировать не столько базовые позиции-выборы, сколько конфликты и смещения, которые как раз и составляют реальную эпистемическую ситуацию, как в ее «штатном» режиме, так и в чрезвычайной ситуации – эпидемии, новых болезней, вымирания вида и т. п.
Господствующая сегодня конструкция составлена из привилегии внешнего наблюдения, парадоксальным образом дублируемой своего рода приватизацией болезни. Внешняя позиция на оси наблюдения поддерживается, в свою очередь, привилегией унифицируемого и в то же время обобществляемого предельно открытого знания. Известно, что с XVIII–XIX веков сама область болезни как таковой перестала привязываться к внешним причинам, к инородным агентам, казусам, случайностям и катастрофам, то есть болезнь подверглась унифицирующей нормализации, которая означала попытку подвести физиологические основания под патологию[2] (попытку далеко не самоочевидную). Речь идет о введении своего рода «принципа симметрии» в области патологии, предшествующего его переоткрытию в современной антропологии и STS. В данном случае он означал то, что состояния здоровья и болезни следует оценивать и описывать в одних и тех же терминах, в рамках одной гомогенной теории. Усилиями физиологов XIX века был создан горизонт унифицированной науки, в котором патология относится к разряду знания обобществляемого и положительно решенного (то есть указывающего на устойчивый онтологический горизонт собственно научной патологии).
В то же время нормализация патологии создает двусмысленный эффект: если области физиологии и патологии совпадают, непонятно, как отделить одно от другого? Если физиология описывает общетипичное протекание естественных биологических процессов, что именно вызывает в них сбой или, говоря точнее, что именно позволяет определять его в качестве отклонения? Можно ли вообще говорить об отклонении в терминах естественной науки, которая стремится к унифицированному и свободному от ценностей описанию? Не стремится ли в таком случае патология выродиться в собственный казус, случайность, который нормализованная наука освоить и описать не в состоянии?
Решение этого противоречия было дано двойственной интерпретацией статуса больного, который, теряя привилегии на исключительное признание и познание собственной болезни, получает, однако, права на владение собственным «казусом» болезни как отдельным случаем, подводимым под общие принципы физиологии. Иначе говоря, казуальность болезни оправдывается ее индивидуализацией в теле больного, то есть не чем иным, как ее субъективацией, составляющей базовый эпистемический принцип, для нас самоочевидный: болезнь – это болезнь больного. Соответственно, болеть может только индивид, но не культура клеток, не физиологическая или компьютерная модель какого-либо органа, не биохимический или гормональный цикл. Точно так же не может болеть популяция, цикл воспроизведения вида или экологическая ниша. Речь при этом идет не просто о «восприятии» болезни или субъективном опыте боли, но о том, что именно индивид, единичный больной всегда задает те условия казуса, которые только и составляют в конечном счете конкретную картину болезни, уникальное сочетание общих физиологических принципов.
Само понимание физиологической симметрии предполагало нормализацию больного, то есть включение того или иного отклонения, патологии, в континуум обычных явлений, которые именно в зоне отклонения подчинены «ответственности» больного, становясь предметом его ведомства. Физиология, таким образом, буквально наделяет больного правами, занимается его инклюзией, поскольку он сам теперь уже не исключение и не отверженный. Она, осуществляя его empowerment, показывает, что ничего необыкновенного в нем не происходит, а потому обычно он сам обращается в больницу, представляя врачу экземпляр собственной болезни, уникальной, но подводимой под общие принципы диагностики. Общее пространство нормального и патологического понимается, соответственно, как пространство либерально-инклюзивное (больной включается одновременно в норму физиологии и в норму социальных отношений), в котором не может произойти ничего экстремального, так что больной полностью сохраняет свой социальный статус, не теряет имущества и не подвергается репрессиям. Более того, болезнь сама понимается как своего рода собственность больного. Взаимодействие с больным в таком физиологическом и одновременно либеральном режиме – это взаимодействие с ним как с ответственным агентом по поводу его тела, процессов, в нем происходящих, то есть болезнь становится экземпляром более общего множества нормализованных отношений, таким же, как недвижимость или права наследования.
Таким образом, само утверждение унифицированной позиции открытого и доступного знания, ориентированного на внешнее наблюдение и рассказ от третьего лица, потребовало создания дополнения в виде инклюзивной позиции больного, фиксирующего сам факт болезни, являющийся не более чем приватизированным локусом физиологически допустимых и объяснимых состояний. Болезнь является не иллюзией больного, не просто фактом сознания, «болью» или личным опытом, а тем, что позволяет отделить план ее исключительности и казуальности, распределяемой по частным пользователям, от плана общенаучного описания той же самой казуальности. Таким образом была осуществлена эпистемологическая и одновременно имущественно-либеральная инклюзия, означающая, как прямо указывал Ж. Кангилем, то, что вопрос патологии всегда следует сверять с оценкой самого индивида, с тем, насколько он сам считает себя больным.
Соответственно, патология очищается от представлений об инородных силах и агентах, а также качественных экстремумах, событиях и катастрофах, которые требуют отдельного изучения; напротив, ведущими примерами новой патологии становятся такие хронические заболевания, как диабет, для которых характерен внутренний генез и в то же время относительная безопасность (при должном лечении) для самого пациента. Именно в той ситуации, в которой патология нормализована, вписана в общую логику строго научной физиологии, вопрос о «болезни» выделяется в область личного пользования, становится тем оценочным суждением, которое требует консультации у того, кто только и может за него отвечать, а именно у больного субъекта. Такая либерально-инклюзивная модель означает, что сама позиция индивида эквивалентна в плане физиологии складке на гладкой поверхности нормализованного знания, или, что то же самое, способу более или менее патологического освоения и распознавания такого знания. Индивид – тот, кто знакомится с физиологией, познает ее преимущественно в модусе патологии (до болезни мы можем не задумываться о своих органах и даже их наличии), что как раз и позволяет ему стать индивидом.
Вполне логично, что привилегированную позицию получили хронические болезни, допускающие подобную индивидуацию, освоение собственного ресурса патологии, но не ставящие под вопрос жизнь индивида. Их не-смертельность – и есть то, что обеспечивается прогрессом научной физиологии, которая начинает мыслиться как способ «де-летализации» заболеваний, означающий одновременно их «хроникализацию». Тот факт, что наличие ненормальных признаков само по себе не позволяет провести различие между состояниями здоровья и болезни, коррелирует с тем, что прототипичными болезнями становятся болезни-активы, габитуальные, врожденные и профессиональные заболевания, отождествляемые со своего рода физиологическим капиталом индивида, относительно которого он определяется. Болезнь – это идиома индивида, которая де-летализируется обобщенным физиологическим знанием.
Пандемия: эпистемическая перегрузка
В ситуации пандемии эта конструкция обобщенного знания / инклюзивного больного если и не рушится, то испытывает серьезную нагрузку, давление, которое открывает возможности для перекомпоновки всего эпистемического поля болезни в пределах трех указанных осей. Речь тут должна идти не столько об отдельной эпидемии, сколько о кризисе знания о болезни, запускаемом накоплением аномалий, например, неопределенностями в генезисе возбудителя и в этиологии, слишком быстрым распространением заболевания, которое, однако, слишком медленно для самоочевидного социального краха, и т. п.
Возмущение ощущается, прежде всего, на оси наблюдения, когда болезнь перестает сверяться с оценкой индивида. Демонтаж индивидуализации в недавней эпидемии COVID-19 осуществлялся не только за счет отсутствия средств де-летализации (в конце концов, ничто не мешает всю жизнь прожить с вирусом герпеса или Эпштейна – Барр), но и за счет целенаправленной десубъективации самих реалий болезни. Ее очевидным признаком стал статус «носителя без симптомов», нулевого носителя, который в принципе не способен сделать реальность болезни реальностью субъективной, вести о ней речь от первого лица. Для инклюзивного больного характерна корреляция между его собственным локусом патологии и обобщенным знанием, этот локус размечающим; отсюда, в частности, сама возможность «обращения к врачу» (а не наоборот, поиска врачом своих больных). В ситуации пандемии эта динамика частной болезни и ее общего обоснования была приостановлена в пользу форсированной десубъективации болезни, путем намеренного смешения собственно «заболевания», как коррелята нормативного суждения субъекта и врача, и простого факта «переноса» инфекции (то есть смешения со статусом «хозяина паразита»).
Структурно такая десубъективация объясняется тем, что «пандемия» – термин оценочный, то есть не столько описание, сколько перлокутивный сигнал тревоги, указывающий на задачу недопущения распространения инфекции. Равновесие инклюзивного больного и врача-терапевта смещается в сторону такой конструкции болезни, которая должна минимизировать количество заболевших, то есть число «собственников» болезни должно стремиться к нулю. В пандемии болезнь стратегически задается в качестве того, что должно соприкасаться с потенциальными больными по минимуму, но именно это создает напряжение во всей конструкции знания о болезни, поскольку последняя становится все более десубъективированной и даже бестелесной. Сама эта бестелесность является следствием нарушения одного из базовых принципов рассмотренной модели знания, утверждающего, что болеет индивидуальный больной, а не популяция. В новых условиях знания болезнь одного не приравнивается к процессам в популяции, то есть популяционный эффект отделяется и абстрагируется от индивида, оказывающегося лишь одним из элементов общей картины, включающей, в частности, ресурсы здравоохранения, которые в пандемии начинают «болеть» в том же смысле, что и популяция. В полном соответствии с акторно-сетевой теорией, агентами (то есть пациентами) болезни становятся не только отдельные люди, но и перегруженные медицинские ресурсы и даже дефицитные технические аппараты, как только пандемия перлокутивно проецирует болезнь на популяцию, превращая ее в бестелесное событие. Это, разумеется, не значит, что индивидуальные больные не имеют никакого опыта болезни, просто этот опыт расцепляется с конструкцией обобщенного медицинского знания, превращается в идиому или же частную практику выживания.
Этим вполне логично открывается путь к аннулированию статуса больного как дееспособного носителя болезни, летальный исход которой можно достаточно долго отсрочивать. Результатом становится особая конструкция индивида, для себя принципиально закрытого, у которого юридически есть только одно обязательство – в случае собственной смерти, в том числе ожидаемой, обратиться в соответствующий государственный орган, чтобы поставить себя на учет, вписать в популяцию. Но ожидание на основе симптомов смешивается с экзистенциальным ожиданием и затуманивается им. Любой симптом (то есть любой феномен, так или иначе опознаваемый индивидом в качестве «своего») становится в таком случае коннотатом инфекции: о COVID-19 «свидетельствует» как полное отсутствие симптомов, так и вообще любой симптом, начиная с плохого сна и заканчивая сыпью. Иными словами, из инстанции сверки и ответственного «владения» собственными болезнями и симптомами субъект становится поверхностью хаотических симптомов и их отсутствия, крушением всякой феноменологической структуры «одна болезнь / много симптомов» (по модели предмет/данность в набросках), поскольку болезнь в подобном случае не поддается присвоению, становясь внешним эпизодом, подлежащим столь же внешнему учету.
Упразднение больного как либерально-инклюзивного субъекта, сформированного за последние два столетия, может показаться окончательной победой объективного нормализованного знания (физиологии, микробиологии, статистики и т. п.) над «частным» характером болезни, воплощенном в больном, приватизирующем собственное заболевание. Нельзя, однако, забывать о том, что больной такого рода сам выступал своего рода санитарным кордоном, защищающим общее знание от угрожающих ему казусов, исключений и чрезвычайных ситуаций, поскольку все они оказывались в его ведомстве и под его надзором (за каковой надзор он сам, однако, получал определенные привилегии). Когда же в ситуации пандемии такой больной стратегически и целенаправленно устраняется, возникает угроза переливания всего резервуара казуального в общенормативное знание, а потому и его переполнения аномалиями. Искомый триумф нормализации размывается ее аномализацией, что отображается в достаточно разных кейсах, отличающихся одним и тем же паттерном, – наука, вместо того чтобы занять место господствующего дискурса, систематически уклоняется в позицию метадискурса, призванного оценить соотношение норм и аномалий в конкретной ситуации. Вместо суверенного решения она предлагает спектакль науки реальной, то есть неокончательной, увязшей в профессиональных спорах, фаллибилистской. Причем спектакль этот характерным образом разыгрывается в самое неподходящее время – в ситуации научной контроверзы и общественного давления.
Так, с самого начала эпидемии такой научной контроверзой – в том смысле, в каком этот термин используется в ANT и социологии науки,[3] – стало применение масок, превратившееся в предмет не только разных, в том числе противоречивых, рекомендаций, но и метаанализов[4]. Элементарный, казалось бы, факт – полезность или бесполезность масок – утонул в море научной саморефлексии, которой достаточно сложно прийти к консенсусу в той именно ситуации, в которой он понадобился. Характерной особенностью такой аномализации знания стало то, что, вместо предоставления окончательного результата, наука стала ссылаться на себя, в том числе на публичных форумах, как на процесс, науку в ее контексте исследования, богатстве граничных и экспериментальных условий, каковое богатство как раз и не позволяет сделать решающего перевода полученных экспериментальных данных в прикладную область. Конечно, последняя всегда во многом оставалась зоной ответственности больного как индивида (и сопровождающего его врача общей практики), но, поскольку такой больной эпистемически лишается своих прав, отныне он не может выполнять практический перевод научных достижений, которые зависают на стадии неокончательной апробации, в своего рода универсальном «препринте». Универсальность науки на поверку оказывается слишком подвижной материей научного поиска, которая сама составлена скорее из исключений, чем из выводов.
Таким образом, надежда на то, что в условиях пандемии наука должна выйти на первый план и присвоить себе не только эпистемический, но и политический авторитет, не оправдывается. Напротив, мы наблюдаем, возможно, постепенную эрозию того режима функционирования науки, который в медицине был сцеплен с частным статусом субъекта-больного. Вопреки мнению Дж. Агамбена[5], можно сделать вывод, что наука не объединяется с Ватиканом, а, напротив, становится предметом внутренней и внешней десакрализации, в ходе которой ее ценности выносятся из ее храма, в том числе самими учеными, подвергаясь переплавке в нечто вроде бы ценное, но часто совершенно бросовое. Метаисследования, захватившие публичные форумы, поставили читателей перед выбором в условиях невозможности навигации по излишне подробным экспериментальным данным. Но дело не только в том, что метаанализы обычно адресованы лишь профессиональным ученым, а потому вряд ли все общество в целом способно внезапно профессионализироваться, а в том, что даже неискушенный читатель не может не избежать чувства своеобразного обмана и разочарования: вместо того, чтобы сказать «как есть», авторитет науки скрывает себя за непрозрачной завесой научного аппарата, который мешает обещанной унификации науки.
Столь же показателен – как пример деунификации науки – кейс Дидье Рауля[6], первым предложившего использовать гидроксихлорохин. По сути, он показывает, что превращение науки в реальный авторитет возможно только неконвенциональными, а то и откровенно коррупционными средствами. Так, Рауль попросту отверг принцип коллегиального рецензирования как базовый принцип конструирования научного авторитета, сделав из своей клиники прибежище для ковид-больных, поверивших во врача-чудотворца. Рауль, в прошлом создавший устойчивую фабрику публикаций в ведущих журналах, то есть вполне освоивший сам этот механизм легитимации научной деятельности, в условиях пандемии объявил своих противников, требующих более длительных, протокольных проверок гидроксихлорохина, научной бюрократией, мешающей научному поиску. Таким образом, если ранее медицинское знание тяготело к выведению области казуального в сферу ответственности больного, то сегодня оно напрямую сталкивается со всем множеством отклонений и казусов, оперируя в них средствами статистики и коррелирования, но также нелегитимными инструментами политических манипуляций.
Аномализация, распространяющаяся в силу устранения центрального компонента диспозиции знания о болезни, а именно связки индивидуального больного и врача-специалиста, затрагивает и третью, наиболее устойчивую для современного знания ось – открытости и закрытости. Номинально все знание, сопровождающее эпидемию и производимое в ней, открыто даже в большей степени, чем обычно, что заметно благодаря его проникновению на публичные форумы, на которых даже непосвященная публика готова знакомиться с основными эпидемиологическими моделями, такими как SIR (Susceptible, Infected, Resistant). Но важнее ключевой вопрос, разделивший идеологическое поле, а именно вопрос «чувствительности», в том числе сверхчувствительности к собственно заболеванию, его факту и опасности, – вопрос, определивший как политику упреждения, так и распространение «ковид-диссидентства».
Действительно, в условиях отмены привязки и заземления вопроса о болезни на самом больном (что характерно для начала ожидаемой пандемии, когда та еще таковой не стала), вопрос о патологии становится вопросом абстрактного знания и государственной политики, не получающей обратной связи от индивидуального «больного», предпочитающего частный порядок проживания болезни или ее игнорирование. Соответственно, «чувствительность» или «сверхчувствительность» формируется в качестве такого конструкта внутри самого знания, который пытается выписать в его категориях зону патологии, без обязательной ссылки на больного, что, однако, приводит к неопределенности и шаткости калибровки самой этой чувствительности: сверхчувствительность, алертность является следствием абстрагирования болезни от тела больных (в том числе в модусе целевой задачи недопущения), то есть способом ее конструирования in vitro, если под последним понимать не «лабораторные условия» и пробирки, а весь аппарат знания, медиа и политики. Сверхчувствительность – не что иное, как модус существования болезни, отделенной от тела, не допускаемой к телу, его лишенной и лишаемой, то есть достаточно очевидный коррелят пандемии как перлокутивного определения, требующего рассматривать болезнь обособленно от тел.
Если для научного знания вообще вирусная инфекция заурядна (далеко не все вирусы целенаправленно изучаются), то в ситуации смещения от центра медицинского диспозитива, то есть больного, возникает проблема такого определения патологии, которое бы компенсировало (временное или целевое) отсутствие больного или его несознательность (неданность больного для него самого). При устранении или, по крайней мере, недоверии к самоописывающей инстанции больного казус и аномалия должны быть реконструированы внутри самой экономии знания, что можно сделать только за счет опережающей сверхчувствительности. Когнитивно-поведенческие исследования и ранее показывали, что врачи порой считают больных излишне оптимистичными (или несерьезными), потому врачебная практика может попытаться компенсировать такую несерьезность и недооценку рисков – за счет «чрезмерной диагностики» (overdiagnosis). Медицинское знание и коррелирующие с ним практики управления пытаются репрезентировать, явить всем и каждому исключительность патологии, должной остаться бестелесной, а потому вынуждены конструировать ее без опоры на больного (или по крайней мере без надежды на него), для чего требуется развитие сверхчувствительности к болезни, к самому ее факту и ее качеству, каковая сверхчувствительность становится предметом критики со стороны тех, кто отстаивает нормальный, штатный режим медицинского знания, требующий в конечном счете сверяться с индивидом.
Необходимо отметить, что сверхчувствительность (публично выражаемая в призывах соблюдать карантинные требования, в официальных заявлениях и медийных кампаниях) является не сознательным выбором или, тем более, решением определенной группы профессионалов, а именно следствием переноса самого груза казуальности и событийности на знание, нормативно становящееся бестелесным: поскольку больной в принципе не может нести его на себе или в себе (по крайней мере, пока он не больной, но именно в таком качестве он и должен оставаться), его вынуждено нести само знание и его профессионалы, их дискурс, которые внезапно начинают ощущать его в качестве инородного тела, пришельца, внедрившегося в знание точно так же, как вирус внедряется в тела «больных поневоле». Последних допустимо так назвать, сославшись на перевертывание фигуры крайне востребованных, но невежественных «врачей поневоле» Мольера – сегодня, напротив, фигурой невежества и недостаточности становится стратегически отсутствующий больной, которого ищет врач. Именно в том случае, когда шествие вируса по телам больных для них самих остается фактом сомнительным, в лучшем случае возможным (а потому и не обязательным), истиной популяции, но не индивида, знание может моделировать саму реальность патологии только в режиме сверхчувствительности, то есть все большего инвестирования в алертность, за счет когнитивной инфляции, призванной компенсировать недоверие популяции потенциальных больных. Обычная переоценка рисков, использованная врачами в качестве инструмента компенсирующей коммуникации с больными (надо убедить того, кто склонен к оптимистическому предубеждению), становится конститутивным моментом самого знания, в котором без такой стратегической переоценки невозможно фиксировать сам факт патологического казуса.
В результате ситуация, подобная социальной динамике «болезни Лайма», требующей формирования круга последователей и «свидетелей», проецируется на само профессиональное сообщество – врачей, управленцев, политиков и т. д. Возникает группа сверхчувствительности, своего рода локальный милленаризм, который поддерживает проблематичную конструкцию полной очевидности, которую невозможно сделать истиной «больных поневоле». Отличие от «болезни Лайма» или «электромагнитной сверхчувствительности» заключается в том, что в случае COVID-19 такой группой поддержки и свидетельства становятся не пациенты, пытающиеся отстоять свои права (что вполне укладывается в логику политики идентичности и групповых исков), а, напротив, профессионалы, вынужденные культивировать подобную сверхчувствительность в режиме подготовки к катастрофе по Герману Кану[7], одному из архитекторов холодной войны: чтобы избежать последствий катастрофы, а может, и ее самой, необходимо исходить из ее неизбежности, руководствуясь в практической политике катастрофой как уже состоявшимся событием. В ситуации эпидемии основная часть населения не может послужить компонентом нормативно-либеральной конструкции знания, но задача в том и состоит, чтобы оно им не служило, то есть чтобы инфекция не распространялась; а раз так, оно не может быть надежным инструментом изоляции самой событийности и казуальности болезни, не может территориализировать ее на себе. Официальная задача нераспространения инфекции совпадает с устранением самой функции индивида (нам, если мы врачи и управленцы, требуется, чтобы потенциальный больной не заболел), а потому единственный способ конструирования реальности патологии – эскалация по методу Кана и «болезни Лайма», но уже силами профессионалов. Это, разумеется, не может не порождать эффекта заговора – как и ответных конспирологических теорий.