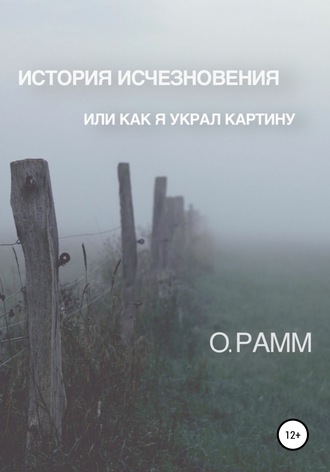 полная версия
полная версияИстория Исчезновения. Или как я украл картину

О. Рамм
История Исчезновения. Или как я украл картину
Для художника не существует демона страшнее, чем перфекционизм. Люди искусства видятся многим как всеведающие чудаки, снобы, преисполненные гордыни от факта собственного существования; однако сколько же я знавал живописцев, перед самым лицом смерти сожалевших о неверно сделанных мазках, недоделанных композициях или о неспособности шагнуть за рамки своих навыков, знаний и таланта. Один мой знакомый импрессионист, разум, а затем и жизнь которого безвозвратно унёс сифилис, в последнем письме ко мне признался, что его бытие омрачали не привычные большинству горечи жизни, а несовершенство его собственных творений. Не единожды являлся я свидетелем того, как незаметные для глаза обывателя штрихи и тонкости, способные превратить умелую мазню на холсте в произведение искусства, доводили до исступления, а иногда даже и до безумия самых прославленных художников.
Картина, за которой я пришёл в ту ночь, была именно из таких – незаконченный, неогранённый алмаз с потенциалом шедевра. Произведение руки французского мастера Фабриса Десмаре (Fabrice Desmarais) было воплощено на холсте на закате восемнадцатого века. Картина уже давно пережила мастера, как годами, так и известностью, ведь за каждым слоем краски, за каждой линией скрывала она не только нераскрытый гений создателя, но и ключи от разгадок к странным, загадочным событиям, сопровождавшим её на протяжении более двух столетий.
В весьма узком кругу поклонников творчества Десмаре художественная ценность произведения не подлежит и малейшему сомнению. Однако подавляющее большинство искусствоведов не столь едины во мнении. Сам стиль написания полотна резко и явственно отличался как от предшественников Десмаре, восхлавлявших в своих произведениях богатство, вычурность и власть, так и от более скромных и сдержанных черт картин его современников. Незнакомый с полотном эксперт в области изобразительного искусства отнёс бы полотно скорее к периоду рассвета сюрреализма, нежели чем к эпохе, когда французская кровь кипела огнём Великой Революции. Большинство искусствоведов полагает, что экстравагантный для тех времен и мест стиль Десмаре подчерпнул из странствий по диковинным Индии и Ирану. Именно из тех далёких краёв, наполненных неведанной и непостижимой для европейского человека того времени экзотикой Востока, живописец, как считается, и позаимствовал необычные цвета и детали, преобладавшие в работах его авторства и истинного гения.
Впрочем, далеко не все разделяют версию о том, что Десмаре за его недолгую жизнь покидал предместья Парижа. Считается, что художник появился на свет бастардом. Он был существом лишним, не нужным ни его отцу, личность которого даже среди ревностных поклонников мастера часто оспаривается, ни матери, персоне ещё менее примечательной. Тем более удивительно, каким образом в полной лишений жизни юного Фабриса нашлось место живописи. Едва ему исполнилось десять, Десмаре оказался в подмастерьях у живописца, занимавшегося в основном портретами и репродукциями. Имя первого и единственного учителя Десмаре утеряно историей, однако во время путешествия по Новой Англии я видел портрет американского джентльмена, посещавшего Францию предположительно в 1790-х годах; портрет тот вполне мог бы выйти из-под кисти безымянного маэстро – благодетеля Фабриса. Общению с паломниками гран-туров и странниками с самых далёких уголков света, навещавшими Париж и, возможно, расплачивавшихся безделушками из родных земель вместо денег, и приписывают главенствующую роль в формировании стиля Десмаре.
Как известно, если страдание и оставляет художника, то ненадолго. Именно стардание является одним из ключевых ингредиентов в создании произведений, способных играть на нотах человеческого восприятия, в обыденности недосягаемых. Необыкновенный стиль Фабриса Десмаре, столь ценимый его последователями, современники самого художника считали извращённым, композиции – безобразными, а яркие краски – вульгарными. Бытует мнение, что именно поэтому за всю жизнь автор не продал ни одной работы собственного гения, перебиваясь лишь тусклыми портретами туристов и скудными, написанными под кальку, пейзажами. Едва разменявшего третий десяток Десмаре одолела такая бедность, что он оказался вынужден продать собственные шедевры за сущие копейки. Своё последнее творение, а также объект интереса моей скромной персоны, Фабрис, однако, продавать не спешил, невзирая на непосильные тяготы. Чувствуя, что силы покидают его, творец стремился завершить работу, что ему бы удалось, если бы, по легенде, повествующей о страннейшем стечении обстоятельств, картина не приглянулась одному зажиточному заморскому купцу. Богачу оказались не чужды ни формы, ни цвета, композицией же полотна он был поистине заворожён. Не смущали толстосума даже утверждения автора, что работа была далека от завершения; ему, во что бы то ни стало, хотелось завладеть полотном до отбытия из города. День за днём захаживал богач в обветшалую мастерскую Фабриса, и всякий раз получал отказ. Но, согласно этой истории, всему есть цена, даже чести и душе. Когда купец оказался на пороге обители художника с сундуком золота, голодающий Десмаре сдался. В тот же вечер караван иностранца исчез. Десмаре же, привязав запертый и с нетронутым золотом сундук к шее, прыгнул в Сену.
Что я могу сказать, забавная история. Разумеется, сказ о заморском богаче – отъявленная ложь и драматизация человеческой жизни под прикрытием причудливой легенды. Пускай доказательством моему утверждению будет то, что никакого сундука с золотом на дне реки так найдено и не было, а уж наполненного богатствами сундука, да ещё и с привязанным к нему мертвяком, так и подавно. Картина, вероятнее всего, была украдена, с чем истощенные тело и разум автора справиться не смогли.
После гибели Десмаре последнее творение живописца пропало с глаз отвергнувшей его общественности на целое столетие. Напомнила картина о себе лишь в конце девятнадцатого века, когда была выставлена на торгах аукционного дома Бауэр&Уилсон в Эдинбурге. Предыдущий владелец полотна, последний потомок разорившегося дворянского рода, был вынужден продать многое из того, чем владело его семейство; даже его фамильное имение ушло в тот год с молотка. Продажи помогли поправить дела… правда, ненадолго, ведь потомок благородного рода вскоре попал в некролог местной газеты. По заверениям третьих лиц мужчина, пробравшись в проданное имение, прыгнул в колодец, что наверняка означало его гибель, хотя тело так и не нашли.
Учитывая всю необычность обстоятельств гибели дворянина, толки о его засвидетельствованной, хоть и не подтверждённой, смерти пронеслись по округе и на удивление скоро утихли. Лицо же джентльмена, купившего картину, Бэзила Соммерсета, ещё две недели печатали на первых страницах большинства газет Британии, однако, далеко не по причине его экстравагантной покупки. По дороге с аукциона автомобиль Соммерсета упал в реку. Еле живого водителя удалось вытащить из машины, скорее, к его собственному несчастью. После аварии бедняга стал немногословен, а руки его при одном только виде дороги тряслись так, что водить машину он стал более не способен. Толстосум Соммерсет же оказался столь велик в ширину, что вызволить его не удалось, по крайней мере, вовремя. Картину же в автомобиле не нашли, несмотря на заверения владельца аукционного дома о том, что тот передал её в руки Саммерсета лично.
Полотно объявилось вновь почти ровно через год; и вновь страннейшие обстоятельства окружали его появление. В одном из захолустий города Д., на верхнем этаже старого, пустого и разваливавшегося дома, где даже находиться, не то, что жить, было опасно, по вечерам начали зажигаться огоньки. Поначалу местных жителей данное обстоятельство интересовало не особо. В конце концов, мало ли бездомных бродило в округе, а связываться с такими – себе дороже. Однако когда из дома по ночам начали доноситься дикие и отчаянные вопли, жители не выдержали и вызвали полицию. Может быть, стражи порядка и были чересчур медлительны, а посему и не застали источник воплей, но, всё же, с пустыми руками они не ушли. В той самой комнате, на верхнем этаже обветшалого барака, где по ночам горел тусклый свет, офицеры обнаружили стол, свечу, кресло и то, чего они совсем увидеть там не ожидали. Первые три предмета, старые, пыльные и разваливавшиеся, вполне соответствовали окружавшей их обстановке. Неудивительно, что картина Десмаре с её яркими цветами и резкими образами, бережливо помещенная на мольберт, выбивалась из окружения. Так как полотно кисти Фабриса в тот вечер, да и несколько последующих вечеров, было ещё не столь знаменито, полицейские забрали холст в качестве вещественного доказательства. Через пару дней после визита в Д. господина Бауэра, одного из владельцев аукционного дома Уилсона-Бауэра в Эдинбурге, картина была распознана. Сутки спустя особо дотошный, но скорый на руку журналист, которому поручили написать очерк об этой истории, отыскал покрытую пылью и речными песками легенду о последнем творении Десмаре, о сундуке в Сене, привязанном к трупу и наполненном заморскими сокровищами.
Неизвестно, обрела бы легенда ту популярность, если бы находке не сопутствовало ещё одно занятное обстоятельство. Даже Бауэр, который, в отличие от мадам Уилсон, был холоден к изобразительному искусству, заметил, что картина изменилась. Цвета, и без того резкие для периода написания картины, стали ещё ярче. Однако самой главной и заметной переменой стала дорисовка композиции полотна. Можно подумать, что, прознав об этом, владельцы аукционного дома потеряют всяческий интерес к произведению, ведь ценность его в таком случае определить было практически невозможно. Однако Бауэр и Уилсон наоборот стремились во что бы то ни было заполучить картину назад. В свете опубликованной легенды, доставшей имя Десмаре со дна забвения, истории кончины Соммерсета и предполагаемого самоубийства дворянина воспринимались уже не как отдельные эпизоды несчастных случайностей, но как явления злого рока, неотвратимого для всех, кто владел картиной, независимо от того, находилось ли полотно в их собственности годы или всего-навсего несколько часов.
Расследование смерти Соммерсета вскоре было закрыто ввиду признания произошедшего несчастным случаем; картина вновь оказалась в распоряжении Бауэра и Уилсон, которым поначалу не терпелось её продать, и причиной тому было тривиальное стремление обогатиться, а совсем не страхи и суеверия. Эти двое были людьми до мозга костей практичными и не верили в мистификации вокруг полотна. В то же время они осознавали потенциал тех самых мистификаций, когда их аукционный дом стал объектом всеобщего внимания и даже своеобразного суеверного паломничества, и поэтому решили оставить полотно Десмаре, спустя годы ставшее символом аукционного дома. Должно быть, именно тогда мадам Уилсон и увлеклась произведениями искусства с налётом таинственности и мистицизма, ценившимися не столько за мастерское исполнение, сколько за истории, сложившиеся вокруг них.
Следует отметить, что наличие «нехорошей» картины в аукционном доме не помешало мадам Уилсон дожить до глубокой старости. Господину Бауэру, однако, не был отведено столь много времени. На самом пике популярности Бауэр&Уилсон, общественность потрясла весть о гибели Бауэра, наступившая, как гласит история, из-за совместного приёма медикаментов с алкоголем. Конечно же, суеверные умы связали данное событие как с картиной, так и с вышеупомянутыми увлечениями мадам Уилсон.
Полотно Десмаре провисело в аукционном доме Бауэр&Уилсон ещё 70-лет, пускай и интерес к нему со временем упал. Легенды и потусторонние явления, окружающие произведения искусства, всё ещё будоражат воображение многих, в чём, однако, далеко не все готовы признаться. Мистицизм потерял прежнюю значимость; теперь люди ориентируются по годам, известным именам и эфемерным, надуманно-субъективным ценностям. Никто не старается распознать душу художника в произведении. Тот же, у кого получается разглядеть сущность создателя и его искреннее мнение об окружающем мире, часто отрекается от увиденного. Я никогда не разделял подобного перфекционизма, ведь не существует красоты без уродства, блаженства без боли, а экстаза без забвения.
Осторожно поворачивая ключ в замке задней двери, я нервно оглянулся. Годы планирования и годы ожидания, всё шло к этому моменту, всё должно было пойти согласно моему замыслу. Никакие замки, двери, коды не способны устоять перед банальным человеческим фактором. Старик Уилсон, потомок той самой Уилсон, унаследовавшей свою долю в аукционном доме после смерти мужа и увлёкшейся сказочными историями о предметах искусства, доверял мне безмерно, и именно этим доверием я воспользовался в ту ночь. Я вошёл во внутрь, чувствуя и слыша лишь стук собственного ускоренно бившегося сердца. Шаг, ещё один, даже в кромешной тьме мои движения были ловки и безошибочны, ибо я был знаком с неизменным интерьером аукционного дома Бауэр&Уилсон даже лучше, чем с углами своей крошечной квартирки.
Я знал местонахождение картины, не менявшегося уже десятки лет. Самое видное, самое броское, полотно было первым, что видел каждый входивший через парадную дверь. Даже в кромешной тьме мог я распознать её черты. На картине был изображён уводивший в бесконечность коридор. Стены коридора были увешаны сценами баталий, любви, а также незатейливыми и замершими природными пейзажами. Из всей запечатлённой на полотне толпы, обращённой кто к картинам на стенах, кто друг к другу, только один человек целеустремлённо направлялся вглубь нескончаемого коридора. Части тела его были слегка удлинены и неестественно тянулись в сторону бездны. Тела других участников действа, расположенных ближе к центру полотна, также будто бы затягивало вглубь коридора. Несмотря на следование тенденциям конца 18-го – начала 19-го веков – атлетически сложенным мужам и мягким и целомудренно одетым девам, вниманию к перспективе, стиль автора явно опережал свою эпоху. Композиция более походила на творения Дали в четкости и угловатости архитектуры. Одежда героев по большей части была воздушной и парящей, однако в складках драпировок можно было заметить насыщенные и преисполненные тонкими восточными узорами детали. На холсте были видны трещины – непременный осадок времени, ничуть не портивший, но даже дополнявший произведение. Незаконченной оставалась лишь структура коридора.
Сложно было унять дрожь, сопровождавшую моё прикосновение к полотну. Как можно аккуратнее я снял раму, оставив на светлой стене первозданно-белый и пустой квадрат. Вынести картину так же беззвучно и незаметно, как я вошёл, оказалось задачей непростой, но в итоге выполнимой.
Когда я наконец добрался до своего заранее подготовленного временного жилища на крыше старого дома из блекло-красного кирпича, небо только начало загораться розово-золотым рассветом, предвещая появление всевидящего солнца. Я был спокоен, зная, что ни светило, ни старик Уилсон, никто другой не найдёт меня здесь, по крайней мере, до поры, до времени. Начиная с этой ночи я стал не более, чем призраком, и история моего исчезновения из мира людей будет предана скорому забвению.
Поставив картину на треножник, я рухнул на дряхлую кровать, позволив себе ненадолго расслабиться. Уснуть я, однако, не мог, ибо присутствие картины было слишком осязаемым и волнующим. Когда солнце уже выглянуло из-за горизонта, я открыл шкаф, такой же старый, как и весь окружавший меня интерьер, достал оттуда старый деревянный сундук, а уже из сундука – кисточки, краски, палитру, полотенца, мочалки и прочий инструментарий. Аккуратно разложив все предметы, я начал смешивать краски, дабы добиться идеального совпадения с цветами полотна.
Прежде чем прикоснуться кисточкой к холсту, я сделал несколько глубоких вздохов, чтобы подавить сжимавший мышцы трепет. Первый мазок, второй, третий – каждое мое движение словно разжигало давным-давно потухший огонь. Краски ожили и заплясали на холсте вместе с каждой линией и изгибом. Коридор становился всё длинее и запутанее, а развешенные на его стенах полотна отражали сцены затухавших баталий, любовных приключений, которые я лишил всяческой скромности и сдержанности. Натюрморты и натуралистические пейзажи я оживил, придав им пламени.
За окном шёл снег, когда моя рука опустилась, но не от усталости, а от столь долго вожделенного спокойствия, ибо работа, наконец, была завершена. На полотно теперь можно было глядеть бесконечно, всматриваясь в мелкие узоры висевших на стенах коридора картин, пытаясь рассмотреть конец у коридора, что угловатой спиралью обещал единственному обращённому к его нутру герою в голубых одеждах бесконечное странствие.
Топот ног, послышавшийся у самой двери моего убежища, оповестил о том, что меня нашли. Я, конечно, предпочёл хотя бы недолгий отдых после столь утомительной работы, что я отчаянно пытался закончить в течение двух с половиной столетий… Но, всё же, моё произведение, теперь уже обращённое в шедевр, всегда оставалось первостепенным.
– L'œuvre d'un malade… Votre âme est damnée! – в оцепенении опуская голову услышал я слова. Исходившие не от того, что поджидало за дверью, а вырывавшиеся из глубин моей головы, слова эти были произнесёны над моим полотном в одной из прошлых жизней.
Настойчивый стук в дверь, возгласы и призывы, резонировавшие с очередным моим коллапсом в забвение, уже не имели значения.

