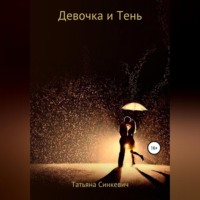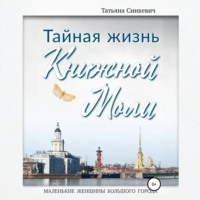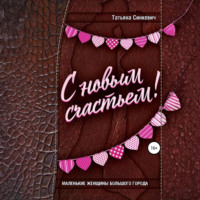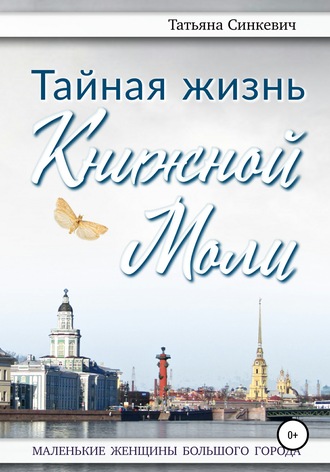
Полная версия
Тайная жизнь Книжной Моли
Так бывает часто. В итоге мир познается не с первого раза. Почему так? Когда я пугаюсь – я сильно расстраиваюсь. Но не потому, что я маленькая женщина. Просто я меланхолик. Таков мой тип темперамента. Состояние души – меланхолия, – тоже родилось раньше меня. Кроме того, я аналитик – мне нравится наблюдать и раскладывать по полочкам различные явления, события, заниматься самопознанием… Столько всего приходит в голову!
К слову, о темпераментах. Однажды я задумалась на эту тему и попробовала взглянуть с этой точки зрения на одно известное литературное произведение, а именно роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Вот что из этого получилось.
* * *Все мы помним из школьной программы сюжет романа и четырех главных персонажей: Онегин, Ленский, Татьяна и Ольга. Пушкин лишил своих героев какого-либо совместного будущего. Почему? Здесь все просто. Эти герои принадлежат к различным преобладающим типам темперамента. Следует обратить внимание, что любой темперамент – это физиология, то, что прорывается вовне через воспитание, минуя разные условности.
Татьяна. Ее принято считать самым положительным персонажем романа. Она меланхолик, это ясно уже из первых строк ее описания. Она грустит, даже если для этого нет особых причин. Меланхолик, озаренный сверхидеей, способен проявлять активность, и Татьяна действует решительно, но тайно. Фактически именно Татьяна является источником всех проблем в романе: ее любовные страдания так или иначе отражаются на всех персонажах и определяют ход событий.
Ольга. Выраженный сангвиник. Мила, весела, но поверхностна и непривязчива к людям или событиям. Между сестрами нет особого тепла, хотя после их разлуки Татьяна, как и положено меланхолику, грустит. Даже гибель Ленского – во всех смыслах серьезное событие, – для Ольги не является потрясением. Она вскоре выходит замуж и уезжает. Но стоит ли упрекать ее в черствости? Нет. Просто сангвиники – оптимисты, они умеют переключаться на что-нибудь другое. В этом их сила и стойкость перед обстоятельствами.
Ленский. Юноша с преобладающим типом холерика. Отсюда его пылкость, горячность, упрямство. Из двух сестер он выбирает Ольгу, по принципу подобия с собственным Эго. Хотя ему как поэту правильнее было бы выбрать Татьяну (даже Онегин это подмечает), но Ленский словно не видит ее глубины. Весь его романтизм – на деле показной. Проблема и беда Ленского в его негибкости: он сломался перед обстоятельствами, проявив твердолобость, в страстном желании соответствовать надуманным сценариям поведения.
Наконец, Онегин. Пожалуй, самый несчастный персонаж романа. Постоянная жертва обстоятельств. Он флегматик, поэтому сам особо никуда не стремится, зато всегда оказывается вовлеченным в какие-либо истории. Ему подошла бы фраза: «так получилось». Единственным проявлением его воли является письмо Татьяне с последующим визитом к ней. Герой, наконец созревший для чувств, получает отказ, правда, после ответного признания в любви (а это шанс!), но Онегин не борется за собственное счастье, предпочитая оставаться в зоне комфорта.
Поступки героев романа – единственно правильный выбор каждого из них, органичный и максимально естественный, учитывая их преобладающие типы темперамента. В том, как сложились их судьбы, никто не виноват.
* * *Александр Сергеевич Пушкин, конечно, знал толк в психологии! Читать «Евгения Онегина» между строк – одно удовольствие. Попробуйте сами! Жаль, что ни в институте, ни тем более в школе это произведение так не преподносят. Было бы не только интереснее, но и значительно полезнее, а творчество А. С. Пушкина воспринималось бы актуальнее. Юных учат мыслить высоко, а дело часто оказывается в банальной физиологии. Даже здесь.
Мое «великое открытие» насчет темпераментов в романе находит подтверждение в опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, где характеры персонажей гораздо более условны, чем у А. С. Пушкина. Чтобы досконально разобраться в жизненной сути произведения, оба шедевра лучше рассматривать параллельно.
Несомненно, раньше меня родилось критическое восприятие мира. Это оберегает меня, маленькую женщину, от иллюзий. И это делает меня решительной в по-настоящему важных для меня вещах. Поэтому я понимаю мотивы поступков пушкинской героини Татьяны Лариной, хоть и отмечаю, что ее поведение в романе носит характер откровенной провокации даже сегодня, а не только с точки зрения нравов XIX века. У нас есть сходство. Я тоже Татьяна, а с виду – маленькая женщина, меланхолик… Так-то!
Вообще о меланхолии можно рассуждать много и долго. Позволю себе некоторые подробности.
Темперамент меланхолика частенько заставляет меня видеть краски мира как сквозь немытое стекло, то есть с легким налетом грусти. Это очень важно, поскольку именно грусть в любом явлении бросается мне в глаза в первую очередь. Мне это жить не мешает, а вот окружающим… очень даже!
Меланхолик неудобен. Он не вписывается в картину «правильного» мировосприятия. Чувствуете? Проблема удваивается: просто маленькая женщина еще туда-сюда, а вот маленькая женщина-меланхолик – всё, пиши пропало. Но ведь темперамента-то четыре и солнце светит всем!
Больше всего на свете меланхолика не просто раздражает – злит, когда окружающие пытаются его расшевелить, удивить, увлечь, а главное, убедить, что он живет не так, и показать, как жить надо. Иными словами, воспитать, то есть сделать удобным для себя. Это бывает сплошь и рядом – в семье, детском саду, школе, институте, в компании друзей и знакомых и даже на работе. Фактически личность с меланхолическим темпераментом изначально формируется и существует во враждебной среде. А потом, повзрослев, оказывается и вовсе разбитой, закомплексованной, а иногда и ожесточенной. Люди, будьте терпимее! Не учите меланхоликов жить! Лучше помогите… нет, не материально! И не им. Помогите себе принять их такими, какие они есть. Конечно, если вам это нужно. Пожалуйста, не развлекайте их. Они и сами способны вас удивить и развлечь, причем в хорошем, правильном смысле слова. Меланхолики весьма понятливы и слишком восприимчивы. Не торопите их, им иногда требуется время, чтобы осознать и пережить собственные чувства. А если вам это не нужно – просто отойдите в сторону и не стройте отношения дальше обычной вежливости. Спасателей нам не надо!
Не секрет, что у каждого человека на земле есть своя роль, которую он играет на протяжении всей жизни, в меняющихся декорациях. Каждая роль имеет смысл. Человеческие роли тесно взаимосвязаны. Уберите одну – пострадают другие! Борец закисает, когда не с кем бороться; артист – при отсутствии публики, воспитатель – без учеников…
Мои дорогие холерики, сангвиники и флегматики, может быть, вы столь яркие и правильные в том числе и потому, что рядом с вами есть меланхолики? А вы, любезные меланхолики, не сердитесь на всех остальных. Часто они и не думают вас задеть или обидеть. В общем, живите дружно! Помните: Арлекин существует потому, что есть Пьеро. Каждый из них без своего антипода будет бледен и лишен смысла.
В годы моей учебы в Кульке у меня была подружка. Сангвиник, то есть человек с противоположным меланхолику темпераментом. Нам было классно, хорошо и весело. Почему? Мы принимали разницу друг друга и иронизировали над ней, доводя личные качества до какого-то фарса. Делали мы это неосознанно, да и как могло быть иначе в девятнадцать лет (только гораздо позже я узнала, что, оказывается, есть такая психологическая практика). В нашем общении мы как бы отыгрывали роли: я – Пьеро, а она – Арлекина. То есть не важно, что происходило, – я нарочито искала во всем поводы для нытья (даже если их и не было, а я в тот момент видела исключительно что-то светлое), а она – поводы для веселья.
Это была игра, поддерживая которую, мы убивали сразу двух зайцев: не противоречили собственной природе, сохраняя душевное спокойствие, и имели постоянную возможность разносторонне видеть любое явление и ситуацию. Главное, что многое переживалось не всерьез, а по законам жанра выбранной игры, что было очень полезно. Такое общение сплачивало лучше каких-то девичьих секретов. Мы говорили обо всем на свете! Это было важно и ценно.
После института наши пути надолго разошлись, но опыт, полученный в юности в результате такого общения, как и чувство благодарности за него, я проношу через всю мою жизнь. Конечно, тема Пьеро и Арлекина гораздо глубже, чем мы имели о ней представление в нашей юности. Но мы и не стремились нагрузить игру какой-либо глубиной, а брали лишь внешнюю, видимую сторону темы антиподов. Зачем скрывать – не будем умничать, – в голове были не столько образы комедии дель арте (хотя в институте у нас были лекции по истории театра), сколько персонажи детского фильма «Приключения Буратино», на котором мы и выросли. Ведь так веселее и понятнее, когда все происходит как в пьесе «Тридцать три подзатыльника» – легко!)))
Описанная мной ситуация в те годы заставила меня не только задуматься о двойственности человеческой природы, но и обратила мое внимание на некоторые сюжеты в изобразительном искусстве. Оказалось, мне нравится что-то сравнивать, искать сходства, различия, противопоставления. Я любила рассматривать картины «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» В. М. Васнецова, «Любовь земная и небесная» Тициана, а также античную скульптурную группу «Орест и Пилад».
Когда-то у меня дома над письменным столом висела репродукция картины Поля Сезанна «Пьеро и Арлекин». Эта картина меня чем-то сильно завораживала. Не вдаваясь в искусствоведческий анализ и без специальных терминов, назову лишь пару моих личных причин, лежащих на поверхности.
Первая – сдержанность во всем: здесь и намек на движения, и тот самый, сезанновский, «темный» налет, как бы приглушающий краски, и ощущение равновесия. На этой картине у меня отдыхал глаз.
Вторая причина – жест Пьеро, который я воспринимала как поддерживающий для фигуры Арлекина. То есть в юности я «читала» эту картину так: «За каждым Арлекином стоит Пьеро. Каждого Арлекина поддерживает Пьеро». А теперь, спустя годы, добавлю, что и Пьеро, и Арлекин – как две стороны одной медали. Это всего лишь маски, задача которых, в понимании обывателя, – глумиться над действительностью. Один – с помощью грусти и нытья, а другой – через злое веселье. Оба играют предназначенные только им роли, отвечают своему амплуа. Это театр, не более. И ничего всерьез!
Итак, меланхолия в виде качества, свойственного темпераменту, может быть другом, хоть и весьма своеобразным. Но существует и ее оборотная сторона. Меланхолия – как некое тягостное состояние – враг. Когда всё вокруг наполняется чернотой, несущей страшную, разрушительную силу, способной убить любую жизнь вокруг и уничтожить даже самые крепкие отношения. Состояние временное, но сильное. Это, действительно, очень тяжело для личности и окружающих, особенно самых близких людей. С таким состоянием невозможно справиться без чьей-либо помощи. А какая она обычно бывает? Человека начинают тормошить, поучать и насильно, за уши тянуть в «счастье»… и результат противоположный. Это все не то… Такого меланхолика надо напугать. И если он здравый человек – он многое осознает и начнет работать над собой. По крайней мере, включит самоконтроль и увидит для себя какой-то позитивный выход из ситуации.
Однажды именно так «напугалась» я сама, посмотрев фильм Ларса фон Триера «Меланхолия». Браво режиссеру! Так тонко и точно передать разрушительную мощь и последствия женской меланхолии! Так грамотно развернуть сюжет, хотя активного действия в фильме нет, а есть лишь пребывание в том или ином состоянии! В общем, дорогие меланхолики и в особенности женщины, посмотрите сами: узнаете себя много-много раз. Хорошая профилактика.
По сути, меланхолия воспринимается как своего рода эгоизм, причем очень сильный: когда все хорошо – меланхолику плохо; а когда плохо – ему может стать получше (совсем хорошо, видимо, никогда не бывает). Может, и так. Потому что он сформировался во враждебной среде.
Когда вокруг все плохо – меланхолик нет, не радуется, а успокаивается, чувствуя правоту своей точки зрения. Это порождает у него чувство собственной значимости, вызывает самоуважение, делает адекватным восприятие действительности. Откуда-то берутся и трезвый ум, и твердая рука, и выдержка, и даже мудрое поведение. Личность может испытывать прилив сил, эмоциональный подъем и на этой волне вдруг поразить всех, например ораторскими или организаторскими способностями, когда другие сдают позиции. Что ж, у всех есть свой звездный час.
Когда «все плохо», держитесь меланхоликов, именно они выведут всех из беды! Главное, не давайте меланхолику впадать в настоящую депрессию. Друзья, берегите своих Пьеро – они тоже нужны! Ведь в жизни нет ничего случайного. А слабости – они есть у каждого.

Книжная Моль
В жизни каждого человека однажды наступает момент, которому неизменно сопутствуют растерянность и стресс. Это момент выбора профессии. Еще бы! Откуда юному созданию знать, как лучше поступить и к кому прислушаться? К отцу, матери, друзьям, может, в итоге к собственным фантазиям? Получается, выбор пути чаще происходит неосознанно, словно не всерьез. И в нем, как в первом раннем браке, можно довольно легко и быстро разочароваться и всё бросить.
У меня всё не так. С детства я почему-то не сомневалась, что стану библиотекарем. Это-то и была моя фантазия! Об этом я написала еще в школьном сочинении во втором классе! «Это самая женская профессия!» – слышала я от многих. А что может быть лучше для маленькой женщины? К тому же и в этом вопросе так трудно было уйти от привычного режима #как_бы_не_для_тебя.

Так я оказалась в Институте культуры, или в Кульке, как его называют в народе. Там у меня появились веселые подружки, легкие в общении и острые на язык. Мы называли представительниц библиотечной профессии, и себя самих, конечно, – Книжными Молями. Было очень смешно, когда вдруг спрашивали: «А на кого ты учишься?» – «На Книжную Моль!» Такое название возникло как-то сразу и очень прижилось в нашей студенческой компании. В нем было главное – самоирония. Мы же не вкладывали в это обозначение какой-либо уничижительный смысл, просто веселились как могли.
Среди институтских Книжных Молей попадались свои эталоны, настоящие «иконы стиля». Таковой была преподаватель истории библиотечного дела – невысокая женщина лет сорока, с очень короткой стрижкой светленьких тонких волос, разумеется, в очках, с бледным лицом (она не пользовалась косметикой), правда, в довольно крупных серьгах и бусах. Она всегда носила черный жакет с белой блузкой и длинную широкую юбку. В общем, сверху «мальчик», снизу – «баба». При этом для середины девяностых она выглядела даже как-то современно, хоть и нелепо. «Вот-вот, и мы такими же станем к концу обучения – настоящими Книжными Молями», – думалось нам. И это оказалось правдой… Сейчас, спустя двадцать пять лет, что я вижу в зеркале, собираясь на работу? Да, ее, Книжную Моль – маленькую сорокалетнюю женщину, с короткими тонкими светлыми волосами, бледную, в очках, надевающую крупные серьги… Стоп! А вот бусы тут лишние! Откуда же такое отражение? Потому что я хорошо училась в институте! Теперь всё не так. Из Кулька выпускаются сплошь красотки. Вероятно, нынче учат как-то по-другому…
Это, действительно, так. Например, сегодня, в эпоху электронных каталогов, знакома ли библиотечной молодежи дикая забава студентов девяностых под названием «Снежок»? Не знаю. А мы, каюсь, баловались – подкидывали вверх каталожные карточки, чтобы они разлетались по всему помещению, с возгласом: «Снежок!» А потом собирали их с пола и расставляли на место. В чем суть? Не дать нападающим вырвать у тебя из рук карточки, подготовленные к расстановке, не дать разрушить разложенные по номерам стопки карточек. То есть тут в чистом виде тренировка ловкости, сноровки, а то и силы! Настоящий спорт! Да и весело! Сейчас и тренироваться-то не на чем. Разве что в какой-нибудь электронной базе данных ошибок в записях наделать! Но это уже будет совсем не тот «Снежок»…
«Самая женская профессия» в общественном сознании до сих пор имеет ряд устойчивых стереотипов: нет престижа, мужчин и денег. Бытует также убеждение, что на библиотекарей учатся сплошь какие-то блаженненькие. В действительности с деньгами и мужчинами – кому как повезет. Вот с престижем – и правда похуже… А странноватых личностей среди библиотекарей, действительно, хватает! В общем, библиотека – самое подходящее место для маленькой женщины, чтобы никогда ни с кем не конкурировать.
Теперь другие времена. Бумажная книга уходит из нашей жизни. Понятие Книжная Моль стало неактуальным: скоро и библиотеки-то будут без почти книг. Выходит… мы зря учились? Нет! На нас, бывших студенток середины девяностых, возложена важная культурная миссия: донести до потомков тот неповторимый внешний вид и стиль одежды, чтобы им было понятно, как выглядит настоящая Книжная Моль. Иначе как они это узнают? И мы, работники библиотек, с гордостью несем эту миссию людям! Так сказать, сохраняем традиции. Пожалуй, надену-ка я еще и бусы…
Все это, конечно, шутка… Библиотекари – нормальные люди. Став Книжной Молью, я ни разу не пожалела о выборе профессии. Что же в ней такого хорошего? Чем она может быть полезной маленькой женщине? Тем, что она учит не теряться ни в чем (в первую очередь в обилии информации) и примиряет с режимом #как_бы_не_для_тебя, в котором, оказывается, вполне можно существовать, причем длительное время.
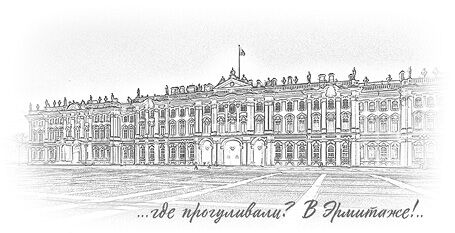
Говорить о том, что Книжные Моли живут скучной жизнью, тоже неверно. Мы жили весело, а наши развлечения не наносили вреда ни нам самим, ни окружающим.
В студенческие годы мы, как и все, иногда прогуливали лекции. И ведь где прогуливали! В Эрмитаже! Благо он находится близко от института, студентам – бесплатный вход, да и народу в середине девяностых в Эрмитаже было мало: ни толпы, ни очередей. И мы активно этим пользовались. К тому же там всегда тепло и сухо, что весьма актуально, если ты живешь в Питере.
Но иногда Эрмитаж приходилось посещать ради выполнения, на наш взгляд, абсурдных заданий, которые нам давали преподаватели нелюбимых дисциплин (в то время появилась «мода» на нестандартные методы обучения). Одним из таких заданий было написать эссе на тему «Мой образ в искусстве», выбрав какое-либо произведение из коллекции Эрмитажа как соседнего музея. Найденный шедевр нужно было соотнести с собой по внутренним ощущениям, внешней схожести или по другим параметрам и сделать подробное описание этого произведения, придумать историю героя и тому подобное. В этом задании был только один плюс – лишний раз оказаться в Эрмитаже и случайно там зависнуть: побродить по залам, погрузившись в собственные мысли, наконец, «выгулять» обновки – наряды и украшения! Какой уж тут «Мой образ в искусстве»!
Тем не менее свои «образы» мы искали весьма тщательно (преподаватель был строгий), параллельно с удовольствием рассуждая друг с другом на тему какой-нибудь картины или статуи. Правда, почему-то скульптурой из моего окружения особо никто не интересовался. Большинство предпочитали живопись импрессионистов. Я тогда тоже немного этим увлекалась. Но любила всегда именно скульптуру. Поэтому из всех залов Эрмитажа я чаще посещала залы античного искусства, где ощущалась какая-то особая прелесть. Там можно было бродить подолгу. Однажды был курьезный случай: я в тысячный раз обошла мои антики, присела на скамейку в зале Венеры и о чем-то глубоко задумалась, делая пометки в своем блокноте. В общем, на какое-то время выпала из реальности. А затем поднялась и направилась было к выходу… но спохватилась: стоп, я же в Эрмитаж пришла! Тут же надо мной еще два этажа шедевров! Повернула обратно, конечно. Потом самой было смешно…
«А найду-ка я “свой” образ в скульптуре, – подумала я. – Да такой, чтобы преподаватель отстал навсегда». И ведь нашла. Ни много ни мало – Афину Палладу, мой юношеский идеал и пример для подражания. А главное, лучшего образа для Книжной Моли и не придумать. «Афина» – мое институтское прозвище, которое, как ни странно, прилипло ко мне еще с первого курса. Видимо, образ был найден очень точный.
Сейчас, конечно, это вызывает улыбку… Персонаж-то, в общем, своеобразный. Но я изо всех сил стремилась ему соответствовать: читала «умные» книги, задумывалась о великих вещах, накапливала вселенскую мудрость, отвергала быт, не придавала должного значения собственным чувствам (#яжеафина)… А главное, отрастила волосы и носила «античный» узел на затылке. Мне казалось это очень красивым. Теперь-то ясно, что мудрость совсем в другом… А красота – тем более…
Но в подражаниях были и плюсы: воспитание бойцовских качеств, воли, реальное восприятие действительности, без ложного романтизма. Главное же – развитие наблюдательности и аналитических способностей. Именно эти качества Афины очень пригодились мне, когда я, уже став дипломированной Книжной Молью, отдалась своей страсти – изучению скульптуры, внимательному к ней отношению, чувству «жизни» в ней, «чтению» ее… Эти навыки определили мою дальнейшую судьбу – я стала искусствоведом. Так что в эрмитажных прогулах неинтересных лекций оказалась и польза. Но, друзья, осторожнее с искусством! И уж тем более не ищите там «свой образ», а то однажды он начнет жить вместо вас и за вас. Всякое может случиться! Юность-юность, максимализм, однако…
Во время учебы в Кульке мы, будущие Книжные Моли, после лекций как-то не особо спешили расходиться по домам, зато любили посидеть в пустых аудиториях, поболтать обо всем, посплетничать… Нас было человек пять-шесть. И как-то так сложилось, что все мы неплохо пели, да и любили это дело. Хотя музыкальные предпочтения были у каждой свои. Оказалось, что всем более-менее знаком советский песенный репертуар, в основном лирический, и собравшиеся могут его поддержать. Так мы стали иногда проводить время с песней. В аудиториях была шикарная акустика. Мы получали удовольствие от собственного пения (словно ангелы поют, как сказала одна из нас). А что пели? Хорошие песни: «Каким ты был, таким остался…» (с нее всегда начинали), «Ой, цветет калина», «Старый клен», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Зачем вы, девочки, красивых любите?», «На побывку едет молодой моряк» и тому подобное.
Хитом мероприятий почему-то всегда была песня «А я люблю жена-а-а-атого». Она пелась с особой жалобной интонацией. Хотя в свои восемнадцать-девятнадцать лет мы, конечно, и понятия не имели, каково это на самом деле – любить женатого. Но общий настрой песни улавливали и, как умели, передавали.
Совместное пение удивительно объединяет. Расходились мы обычно с чувством глубокого удовлетворения. Если в момент «концерта» кто-то заглядывал в аудиторию, мы не замолкали. Любопытные обычно деликатно удалялись. Вероятно, они считали, что мы не с библиотечного факультета, а «массовики-затейники», поэтому нам не мешали, думая, что мы, вероятно, репетируем. А мы просто получали удовольствие. От песен, от самих себя, от общей беззаботной атмосферы.
Однажды в институт пришел молоденький преподаватель. Между собой мы называли его «Пельмень» за плотное телосложение и маленький рост. Преподаватель был очень умный. Ходили слухи, что его любимой книгой с детства была Большая советская энциклопедия, которую он читал от корки до корки. Это было похоже на правду. Лекции, которые он читал, были весьма интересны. Но вне лекций Пельмень вел себя со студентами строго, высокомерно, иронично и был очень вспыльчив.
Как-то раз в аудиторию, где проходила его лекция, сквозь приоткрытую дверь забрела кошка… Это вызвало всеобщий восторг! Кошка невозмутимо прошлась по аудитории и тихо села в уголке. Студенты также затихли. Можно было бы спокойно продолжить лекцию. Но Пельмень почему-то вспылил, схватил кошку и вышвырнул ее за дверь, с грохотом ее захлопнув. Многим это напомнило известную сцену из фильма «Доживем до понедельника». Студенты этого не одобрили. На следующую лекцию Пельменя никто не пришел, ему объявили бойкот.
Этот случай произвел на нас впечатление. И мы, группка «певичек», решили увековечить произошедшее в музыке, а именно создать «оперу», так мы назвали наше сочинение. Хотя, по сути, это был скорее мюзикл. Взяли известные песни, в том числе из кинофильмов, и даже арию Мистера Икс. Одна подруга имела талант сочинительства, она переделала содержание текстов. Что-то сочинялось совместно. Получилось весьма забавно. Был пролог, история кота, история и ария самого Пельменя, эпилог… Мы пели эту «оперу» в аудиториях и даже записали на кассету. Теперь куда-то всё подевалось… А слова до сих пор иногда всплывают в голове, хотя прошло четверть века. Чего только не хранит наш мозг! Чего только не слышали стены института! Вспоминаю и улыбаюсь, даже иногда напеваю себе под нос, пока мою посуду.