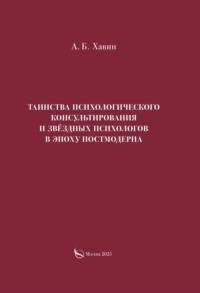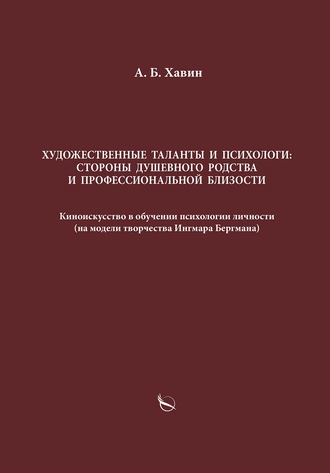
Полная версия
Художественные таланты и психологи: стороны душевного родства и профессиональной близости
Искусство Ясперс трактовал с идеалистических позиций, утверждал, что «мы видим вещи такими, какими нас учит их видеть искусство». О достоинстве художественных произведений он судил по их этическому воздействию. Сетовал по поводу превращения современного искусства в «предмет развлечения, даже приближение его к спорту». Освобождая от принудительности трудовой деятельности, это искусство, по его мнению, не способствует самостийности человека, «находится в оппозиции подлинному человеку». В монографии «Смысл и назначение истории» Ясперс пишет: «Искусство должно было бы сегодня, как испокон веков, ненамеренно делать ощутимой трансценденцию. Причём в том образе, которому теперь действительно верят» (368 с.). Такое искусство, напоминающее человеку о его сверхприродном происхождении как субъекта свободы, он называет шифром сверхчувственного. По сути, Ясперс приверженец искусства, вызывающего те же переживания, что возникают в пограничной ситуации.
Философское учение Жан-Поля Сартра
Французский мыслитель Жан-Поль Сартр (1905-1980) – главный представитель светского экзистенциализма. Его основной философский труд «Бытие и ничто» (1943). Сартр обращается к тем же темам и проблематике, что и Хайдеггер, делает схожие выводы, однако в некоторых положениях расходится с основателем экзистенциальной философии. Его взгляды носят более систематизированный характер. Сартр утверждает, что предметом философского анализа в первую очередь должно стать непосредственно сознание как особая данность, ни из чего не выводимый феномен. В философской системе Сартра сознание и есть существование. В феноменологической онтологии сознания, «бытия-в-мире», Сартр условно выделяет три составляющих: «бытие-в-себе», «бытие-для-себя», «бытие-для-другого». Бытие-в-себе – категория, к которой относится всё сущее. Прежде всего, вещный мир, те случайные обстоятельства, в которых обнаруживает себя индивид (эпоха, его классовая принадлежность и окружение, национальность). В эту же категорию, по Сартру, попадают и люди, если отношение к ним носит вещный характер, лишено любви и признания. Себя человек тоже может воспринимать как объект, если полностью отождествляется с социальной ролью (профессиональной, семейной) и утрачивает индивидуальность. Сущность бытия-в-себе – полная пассивность.
Бытие-для-себя противостоит бытию-в-себя, представляет разрыв идентичности, утрату единства с самим собой. В терминологии Сартра, это «прорыв бытия», абсолютная активность. Источник активности – сознание, осуществляющее трансценденцию. Сознание само по себе предстаёт человеку только при направленности на что-то. То есть, по определению Сартра, собственно сознание есть «Ничто», воплощение свободы человека. Так, если человек что-то утверждает, то этим утверждением отрицается нечто противоположное, а собственно сознание только активность и свобода. «Человек, – пишет Сартр, – свободен, человек – это свобода». Свобода ничем не обусловлена, убежден он, и всегда сохраняется в качестве возможности выбирать отношение к любой ситуации, интерпретировать обстоятельства. Такая позиция вовсе не противоречит некоему предопределению. Если у человека, например, имеется физическая аномалия, то для социальной адаптации гораздо важнее отношение к своему дефекту, чем степень его выраженности. С годами может изменяться отношение к своим родителям, даже к факту собственного рождения. Хорошо известен тезис Сартра о том, что в отличие от предметного мира «человек вначале существует, а затем определяет свою сущность». От самого человека зависит, каков будет он и его мир. При создании предметов (стол, лопата) руководствуются их свойствами, т. е. сущность всех предметов предшествует их существованию. Сущность человека не задана, он не завершён подобно вещи, а постоянно находится в процессе становления.
Бытие-для-другого – это та составная часть бытия человека в мире, в которой он открывает свою субъективность, или свободу, находящуюся до коммуникации с другими в латентном состоянии. В коммуникации, по убеждению Сартра, всегда обнаруживается конфликтность, поскольку каждый из партнёров по общению склонен к обращению со своим напарником, как с объектом, превращению его в вещь, пригодную для манипулирования. Межличностные отношения тем самым обязательно становятся одновременно борьбой за признание своей личной свободы в глазах другого человека. Разрешение этой конфликтности Сартр видит в признании свободы других людей, что представляется ему необходимым условием подлинного существования. Он, тем не менее, придерживается схожего с Хайдеггером мнения о недоступности понимания внутреннего мира человека окружающими, принципиальном одиночестве людей, их чуждости друг другу. Общеизвестен афоризм Сартра: «Другие – это ад». Переживание одиночества, с этой точки зрения, сущностная особенность человеческого существования.
Сартр, как и Хайдеггер, сугубо субъективистским образом трактует категорию времени. Временность, по его убеждению, приходит в мир только через человека, как переживание человеческой души. Источником времени собственно и является постоянное ускользание сознания от тождества с самим собой. Фактически, бытие-для-себя представляет синтез трёх временных состояний: прошлого, настоящего и будущего. Человек, по Сартру, существует только как «проект будущего». Само понятие «будущее» приходит в мир с человеком. Человек всегда определяет и переопределяет своё прошлое в угоду будущему. Критерием свободы выступает именно проектируемое сознанием будущее, а не настоящее. Настоящее – мгновенье, перекресток между прошлым и будущим, только ориентирует человека в отношении к этим временным состояниям. Поэтому в свете философии Сартра формула «живи настоящим» выглядит нелепой. Такое понимание жизни Сартр приравнивает к рассмотрению человека как неодушевлённого объекта, что вполне согласуется с размышлениями Хайдеггера о людях, погрязших в повседневности. С точки зрения Сартра, сама природа человека исключает жизнь настоящим, поскольку сущность человека проективная.
Психопатологию Сартр интерпретирует, основываясь на отсутствии единства человека с самим собой, на характеристике бытия-для-себя как ускользающей идентичности. Он вводит условное понятие «бытийный изъян». Каждый человек стремится к целостности, жаждет единства с самим собой, опасается неопределённости, т. е. хотел бы освободиться от «бытийного изъяна». Этот изъян, однако, только и делает человека человеком. Совпадение с самим собой, по Сартру, недостижимо, пресловутая формулировка «будь самим собой» обманчива. Сущность человека и состоит в том, что он не способен быть самим собой, потому что сам себя не знает. В интерпретации Сартра психические заболевания – одна из обречённых на провал попыток освободиться от бремени бытия. Душевнобольной не вполне осознанно находит выход в психическом заболевании, возвращающем его в состояние «неумения по-другому», отсутствия альтернативы, он подчиняется психическому заболеванию, ограничивающему пространство свободы. В результате утрачивается человеческая сущность, возникает сомнение в собственном бытии.
В то же время Сартр констатирует, что его интерпретация психопатологии основывается на изначальном признании человека существом, страдающим в своём бытии, и на понимании человеческой реальности как осознания несчастья без возможности его кардинального преодоления. Он, как и другие философы-экзистенциалисты, начиная с Кьеркегора, трактует страх, тревогу, депрессию с экзистенциальных позиций, в качестве непреходящих состояний человеческого существования. Неизбывный страх человека – это страх перед небытием. Сартр объясняет страх у края пропасти осознанием возможности спрыгнуть вниз. Выбор из альтернативных вариантов непременно сопровождается тревогой допустить ошибку. Депрессия тоже неизбежна при утрате жизненных ценностей, мыслях человека об отсутствии смысла жизни.
В герменевтическом подходе Сартра к психопатологии в определённом смысле стирается граница между здоровьем и психическими болезнями, отпадает, следовательно, необходимость диагностического разграничения психических заболеваний. И этот его подход крайне важен в понимании психологии художественно одарённых личностей, к которым принадлежал и сам философ.
Относительно позитивную попытку преодолеть бремя существования представляет, согласно Сартру, уход в мир воображаемого, в творческую деятельность. Сартр определяет художественное творчество как деятельность воображения, школу свободы сознания, в нём сознание обретает возможность отрицать действительность. В воображении, заявляет философ, сознание сполна осуществляет свою свободу, выступает причиной самого себя. Освобождаясь от бытия, сознание задействует воображение, отрицает реальность с помощью образов. Сартр категорически противопоставляет «воображающую установку сознания» его установке на реальность, «воспринимающей установке». В художественном произведении (например, произведении живописи), разъясняет он, художник вовсе не реализует свой умственный образ, это в принципе невозможно. Художник конструирует материальный аналог образа, позволяющий зрителю воссоздать этот образ в своём воображении. Полотно выполняет посредническую функцию. Искусство, по Сартру – это способ существования нереальных вещей. Суть в том, что эстетический объект конструируется и воспринимается воображающим сознанием, которое полагает его как нереальное. Изображённый на картине объект ирреален, поскольку он существует только на пересечении сознаний художника и зрителя. Произведение искусства, по Сартру, представляет собой нечто ирреальное. Эстетический объект появляется в тот момент, когда сознание феноменологически отворачивается от реальности, больше её не воспринимает. Эстетическое созерцание, по мнению философа – это спровоцированный сон, переход же к реальности – пробуждение. Поэтому, например, возвращение от восприятия жестокой пьесы к безопасной реальности нередко вызывает неудовольствие, подобно пробуждению от сна.
Важный аспект мировоззрения Сартра – его атеизм. Он причислял себя к последовательным атеистам и противостоял атеистам, кто верит в разумность мироустройства и тем самым, с его точки зрения, отождествляет Бога и природу. Нужно освободиться, считал Сартр, от любых представлений о разумном устройстве мира и основываться на индетерминизме. Не удивительно поэтому, что этические взгляды Сартра базируются на релятивизме, полной независимости от общепринятых норм. Человек, по его убеждению, свободен в своём нравственном выборе и несёт ответственность за него только перед самим собой.
Весь пафос философской системы Сартра выражается, таким образом, в категории «свобода». В преддверии трактата «Бытие и ничто» Сартр написал философский роман «Тошнота» (1938). Главный герой романа жаждет оправдать своё существование и не столько оправдать, сколько избавиться от его пут. Сделать это он собирается в творческом акте написания такой книги, чтобы «за её страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним». Для самого Сартра такая книга, безусловно, «Бытие и ничто»! В то же время его роман «Тошнота» представляет образец литературного произведения, в котором философ высказывает свои основные идеи в художественной форме, что облегчает их понимание.
Художественное творчество Жан-Поля Сартра
Роман «Тошнота»
Роман «Тошнота» написан в форме дневника. Его главный герой историк Рокантен занят скрупулёзным исследованием и описанием жизни маркиза де Рольбона, легендарной личности. И вот в какой-то момент, как говорится в дневнике, Рокантену открывается истина, что вне настоящего прошлого не существует. Тогда маркиз де Рольбон для него умирает. Рокантен утверждается в мысли, что историческая фигура нуждалась в нём, чтобы существовать, а он нуждался в этой исторической фигуре, чтобы не чувствовать своего существования. Рокантен пишет в своём дневнике: «Я был всего лишь способом вызвать его к жизни, он – опровержением моего существования, он избавлял меня от самого себя». Наш герой высмеивает тех, кто пытается объяснить происходящее и поучать посредством своего прошлого опыта, от таких нравоучений, с его точки зрения, попахивает мертвечиной. По мере избавления от образа маркиза перед Рокантеном всё больше открывается реальность, ему кажется, что все прежние знания о жизни он взял из книг. Сидя в кафе, он рассматривает пивную кружку и начинает испытывать нарастающую тошноту от окружающей обстановки, тошнота как бы составляет одно целое с кафе, в котором он находится. Чуждый мир будто бы насильственно вторгается в него. Рокантен приходит к выводу, что его тошнота вызвана бьющей в глаза очевидностью и лишь сопутствует осознанию того, что он и мир существуют. Наш герой, наконец, смиряется с тошнотой, перестаёт считать её болезнью, даже отождествляет себя с тошнотой. Но он, тем не менее, пытается подобрать ключ к собственному существованию, к своей тошноте. И этот ключ, по его заключению, состоит в том, что суть существования – случайность, «некая совершенная беспричинность». А в пределе существование – абсурдность. Слово «абсурдность» Рокантен считает самым подходящим для определения существования. «Когда это до тебя доходит, – пишет он в дневнике, – тебя начинает мутить и всё плывёт». Существование всех людей, по его мнению, беспричинно, а потому все они лишние, и глубинную суть человеческого существования составляет также скука. Когда наш герой задаётся вопросом: «А что такое вообще Антуан Рокантен?» – то в его голове мелькает некое абстрактное представление о самом себе, которое постепенно угасает. Понятие «Я» утратило для него всякий смысл. Реальные вещи предстают перед Рокантеном некой декорацией. Объясняет он это тем, что мыслит о вещах в категории принадлежности: «Море принадлежит к группе зелёного цвета, или зелёный цвет – одна из характеристик моря». То есть отрицается возможность соприкосновения с конкретными вещами. В мире, по его убеждению, отсутствует синий цвет как таковой, настоящий запах миндаля или фиалки, поскольку простейшие нерасчленённые свойства избыточны (лишние) по отношению к самим себе, это абстрактные выдумки. Он полагает, что втайне, в глубине души многие люди тоже ощущают себя лишними. Наш герой приходит, наконец, к выводу: «Мир объяснений и разумных доводов и мир существования – два разных мира».
Воззрения Рокантена проясняются не только из записей его размышлений наедине с собой, но также из описания бесед с персонажем по прозвищу Самоучка и бывшей возлюбленной Анни. Философская беседа с Самоучкой интересна тем, что в ней наш экзистенциальный герой беспощадно высмеивает абстрактный гуманизм любителя самообразования. На чьей стороне симпатия автора романа нетрудно догадаться, в конце повествования Самоучка с позором изгоняется из библиотеки, уличённый в нетрадиционной ориентации. Анни считает себя мертвецом, т. е. прибегает к типичному самоопределению экзистенциальных персонажей, свидетельствующему об отчуждении от самого себя. Такое самоощущение возникло у неё с отказом от поиска так называемых совершенных мгновений, уже никто и ничто не может внушить ей страсти. Подразумевает она, по-видимому, утрату индивидуальности. В дневнике Рокантен повествует о желании помочь Анни, но признаёт свою беспомощность: он сам удивлён жизнью, которая дана, по его словам, ради «НИЧЕГО». В беседах с обоими персонажами Рокантен не может отделаться от мысли, что они так же одиноки, как и он.
У нашего героя одно желание – избавиться от существования, чтобы почувствовать себя свободным, чтобы БЫТЬ. В редкие моменты, которые Рокантен обозначает как приключения, у него всё-таки пропадает тошнота, он избавляется от существования: «Я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь; это я прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа». То, что воспринимается как приключение, мало зависит, по его мнению, от специфики события, а определяется чувством необратимости времени, представляет собой способ, каким мгновенья нанизываются друг на друга.
Прощаясь с городом, где занимался историческими исследованиями, Рокантен посещает кафе, завсегдатаем которого был, и просит в очередной раз поставить пластинку с любимой мелодией. Он с нежностью думает о создателях произведения, то ли как о людях умерших, то ли как о персонажах романа. И его посещает мысль об их избавлении от греха существования, насколько это дано человеку. У него напрашивается вывод, что творчеством можно хоть как-то оправдать своё существование. Он решает написать книгу, но не историческую, из категории тех, что оправдывают существование других людей. По замыслу Рокантена, его книга, подобно сказке, вообще не должна быть подвластна существованию. Он собирается написать такую нетленную книгу, чтобы люди устыдились своего существования.
Таким образом, роман «Тошнота» проникнут основными темами и проблематикой экзистенциализма:
1. Экзистенциализм – это онтология, учение о существовании. Человек обострённо переживает своё существование в моменты смены жизненных ориентиров, утраты прежних ценностей, возникает тягостное эмоциональное состояние: отчаяние, страх, депрессия. Герой романа при отказе от его исторических изысканий испытывает опустошение, заново сознаёт существование себя и мира, чему сопутствует тошнота.
2. Само существование в экзистенциализме понимается как изначальное единство субъекта и объекта, исходная реальность неделима на объект и субъект. Для героя романа его тошнота составляет единое целое с кафе, в котором он находится, он отождествляет себя с тошнотой.
3. Экзистенция (существование) есть непосредственная данность, не сводимая ни к чему, её невозможно представить в виде идей или моделей. Для героя романа ключ к существованию, к его тошноте, некая совершенная беспричинность, даже абсурдность, от которой его мутит, потому он сознаёт себя лишним. Мир объяснения и разумных доводов и мир существования в его понимании – два разных мира. Отсюда трудности с самоопределением, собственный образ ускользает от него. Редкие моменты, когда герой переживает полноту бытия, определяются чувством необратимости времени, а не конкретными событиями.
4. Время – сугубо субъективное переживание, связанное с конечностью человеческой жизни и свойственное только человеку. Прошлое – всегда прошлое конкретного человека, которое со смертью этого человека или отстранением заинтересованных лиц перестаёт существовать, точнее, становится «закрытым», поскольку утрачивается его связь с настоящим. В любой момент жизни человек способен переопределить своё прошлое в угоду будущему. В этом смысле настоящее – перекрёсток между прошлым и будущим.
5. В современной культуре трудно сохранить индивидуальность, характерным становится отчуждение от собственной личности, что переживается как духовная смерть. Героиня романа, утратив потребность в экстатических переживаниях, ощущает себя мёртвой.
6. Люди, в представлении Сартра, принципиально одиноки, отчуждены друг от друга, поскольку внутренний мир другого человека непознаваем. Герой романа воспринимает остальных персонажей как глубоко одиноких людей.
7. Жизнь, согласно Сартру, иррациональна, не имеет никакой смысловой предопределённости, ни извне, ни изнутри. Герой романа удивлён жизнью, считает, что она дана ради «НИЧЕГО».
8. БЫТЬ, в представлении Сартра, значит быть свободным, способным вырваться из-под гнёта обыденного существования, творить собственную реальность, поскольку только в воображении сознание сполна осуществляет свою свободу. Герой романа усматривает путь к освобождению в творчестве.
Рассказ «Стена»
В рассказе «Стена» Сартр помещает персонажей в пограничную ситуацию, когда стирается граница между бытием и небытием, ломаются социальные установки, и человек остро сознаёт подлинность своего существования. Он мастерски описывает состояние трёх молодых людей в ночь перед расстрелом. События происходят во время гражданской войны в Испании.
У всех троих кардинально меняется восприятие окружающего мира и своего тела. Наиболее мужественный из них, случайно оставшийся в живых, вспоминает, как всё вокруг стало казаться ему противоестественным, когда он понял, что предстоит умереть. Странно стали выглядеть обычные предметы: «Разумеется, я не мог чётко представить свою смерть, но я видел её повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отделиться от меня и держаться на расстоянии – они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шёпотом у постели умирающего». Он неожиданно утратил дружеские чувства к ближайшему приятелю, не хотел соприкасаться с горячо любимой женщиной. Одолевало острейшее чувство одиночества и понимание того, что умереть предстоит именно ему. Рассказ «Стена» невольно ассоциируется с произведением Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», в котором, быть может, ещё более талантливо повествуется о переживаниях человека в ожидании приближающейся смерти.
Возвращаясь к роману «Тошнота», упомянем, что первоначально роман назывался «Меланхолия». Сартр отнюдь не отличался оптимистичным мироощущением. В автобиографической повести «Слова» (1964) он признаётся, что в образе Рокантена воплотил самого себя. В романе не содержится сведений о детстве и юности Рокантена, зато в «Словах» подробно с исключительной искренностью Сартр рассказывает о своём детстве, гораздо меньше сообщает о школьных и студенческих годах, и только в общих чертах повествует о своих достижениях и разочарованиях в зрелом возрасте. Тема личной жизни философа-писателя в зрелом возрасте остаётся закрытой. Сартр критически относился к концепции Фрейда о значительном влиянии бессознательных процессов на поведение человека. Видел в ней попытку списать поведение человека на независящие от него обстоятельства. Сам подчёркивал, что человек всегда знает, чего хочет и добивается. Без удивления мы обнаруживаем ростки философских воззрений Сартра в его детских впечатлениях, в особенностях воспитания будущего философа, что соответствует именно представлениям сторонников психоанализа.
Штрихи биографии Жан-Поля Сартра
Родился Ж.-П. Сартр в 1905 году в семье морского офицера. Его отец умер, когда ребёнку не исполнилось ещё и двух лет. Воспитывался будущий философ в семье дедушки по материнской линии. Его дедушка Шарль Швейцер, родной брат знаменитого гуманиста Альберта Швейцера, был профессором немецкой словесности. Взрослые уделяли маленькому Жан-Полю огромное внимание, особенно его мать Анна-Мари. Жан-Поль рано научился читать, и вскоре его любимым обиталищем стал кабинет дедушки, в котором находилась замечательная библиотека. Маленький мальчик по диагонали просматривал труды классиков, обращая внимание в основном на картинки, а за спиной слышал восторженный шёпот взрослых: «До чего же он любит Корнеля и обожает Горация!» Взрослые считали Жан-Поля вундеркиндом и всячески это подчёркивали, называя ребёнка даром небес. Анна-Мари, понимая, тем не менее, подлинные интересы сына, тайком от своего отца покупала ему книги, которые он читал «без дураков» в детской или в столовой, сидя под столом. Комедия, по словам Сартра, продолжилась, восторги взрослых ещё усилились, когда в семилетнем возрасте он занялся сочинительством, начал писать «романы», представлявшие своеобразный плагиат. Взрослые, в том числе гости дома, становились на цыпочки, чтобы наблюдать за работой юного гения, он же делал вид, что не замечает всей этой суеты. Вспоминает, что быстро научился видеть себя глазами взрослых, жить не по возрасту, как взрослый в миниатюре: «Я жил не по возрасту: пыхтя, тужась, через силу, напоказ». Спустя многие годы он радовался, что в такой обстановке его реальное «Я» не превратилось в чередование обманов, поскольку, как выдуманный ребёнок, он и отстаивал себя с помощью выдумки. Рано понял, что симпатия окружающих завоёвывается отсутствием сильных чувств: любви и ненависти.
В детстве у Сартра часто возникало ощущение собственной ненужности: «Я жил в вечном страхе, это был самый настоящий невроз. Я объясняю его так: баловень семьи, дар провидения, я тем сильнее чувствовал свою ненужность, что дома было принято приписывать мне вымышленную необходимость. Я понимал, что я лишний, стало быть, надо исчезнуть. Я был чахлым ростком, постоянно ожидавшим погибели». В пятилетнем возрасте у маленького Жан-Поля возник сильный страх смерти. Он разработал целый ритуал, чтобы при засыпании отгонять костлявый скелет с косой. Страх смерти в этот возрасте возникает, как известно, у многих детей и связан с самим фактом осознания своего существования, но у Сартра страх смерти приобрёл навязчивый характер (танатофобия) и в разных формах преследовал его всю жизнь. Здесь стоит упомянуть утверждение М. Хайдеггера («Бытие и время»,1927), что только человеку дано осознание временности, а значит и самого бытия. И в основе всякого страха, по убеждению выдающегося философа, лежит страх смерти – единственное средство вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе. У Сартра, как следует из его автобиографии, болезненное переживание «бытия-небытия», важнейшая парадигма экзистенциальной философии, восходит к раннему детству. Столь сильному страху смерти, по-видимому, способствовал малоподвижный образ жизни будущего философа, полное отсутствие у него друзей в дошкольном возрасте. Единственным партнёром задушевных бесед маленького Жан-Поля была его мать. В моменты многословного изложения своих впечатлений Жан-Поль порой слышал «внутренние голоса», будто кто-то изнутри головы направлял ход его мыслей. Психопатологов наверняка насторожил бы подобный симптом, они усомнились бы в психическом здоровье ребёнка. К счастью, со временем симптом спонтанно прошёл, и Сартр высказывает благодарность матери, что она не обратилась в то время к врачам. Кроме того, Жан-Поль был маленького роста (и в зрелом возрасте рост Сартра не превышал 158 см), страдал косоглазием, усматривал в своём характере черты женственности. Не случайно его утверждение, что в формировании личности значимы не сами физические дефекты, а отношение к ним.