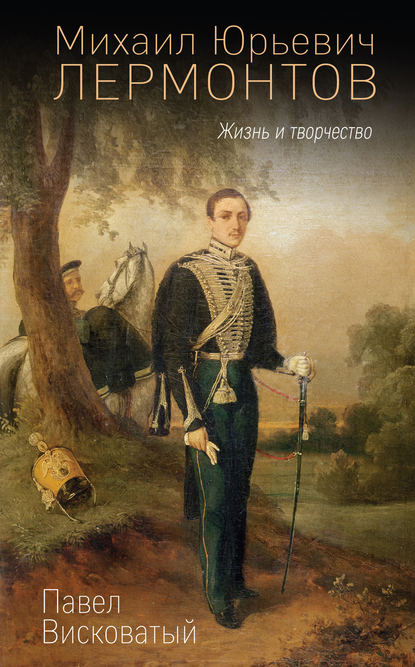Полная версия
Записные книжки. Воспоминания
Недавно к Жирмунскому на лекцию по введению в поэтику явился пьяный студент. Сначала пошатался стоя, потом сел и долго сидел смирно. Жирмунский заговорил о безглагольных предложениях.
– Довольно с нас безглагольных предложений! – закричал пьяный с необыкновенным жаром. Тут его вывели.
В настоящее время неправильно разделять наших историков литературы на тех, которые пользуются социологическими методами, и тех, которые ими не пользуются. Нас следует разделять на тех, чьи социологические методы немедленно вознаграждаются (местами, деньгами, хвалами), и тех, чьи социологические методы не вознаграждаются.
Моя амбиция, между прочим, в том, чтобы принадлежать ко второй разновидности.
Володя Б. рассказывал об ужасе, который он испытал, когда к нему на улице подошла пожилая женщина и вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, где здесь останавливается букашка?» (Он не знал, что в Москве называют «букашкой» трамвай под литерой Б.)
Чего стоит идеология (в том числе религия), если она не помогает и не мешает человеку жить (то есть не требует от него жертв и не придает ему стойкость).
Юрий Николаевич <Тынянов> говорил как-то о том, что люди чересчур много и необоснованно улыбаются и что это принижает человека. В самом деле, назначение улыбки в нашем обиходе многообразно и неясно. Она не всегда является знаком веселости, или насмешки, или доброжелательства. Часто признаком смущения, слабости, притворства и равнодушия. Обесцененная улыбка механически сопровождает речевой процесс как некое добавление к артикуляции. Попросту как легкий способ иметь выражение лица. Между тем улыбка может быть многозначительной и прекрасной.
После смерти Н. В. Икс говорила: «Я поймала себя на том, что два дня не улыбалась. Это поразило меня. У меня рот так устроен, что не улыбаться почти невозможно».
В течение ближайших дней после этой смерти мне несколько раз пришлось слышать о том, что Икс глупа. И это от людей, которым прежде не пришло бы в голову взвешивать ее интеллект. Думаю, что это неверно: дело вовсе не в глупости (Икс скорее умна), а в том, что она не имела дела со страданием, ни со своим, ни с чужим, и не знала, как на это явление реагируют. Она совершенно честна, потому что не понимает тех человеческих и человечных мотивов, по которым порой люди лгут и скрывают истину.
* * *Вот человек, чьи добродетели вознаграждаются на земле. Это сочетание честности с житейским благополучием кажется противоестественным, вероятно, только людям русской культуры. Он же устроен на европейский лад.
– Не думаете ли вы, что Шкловский в самом деле по формальному методу написал «Zoo» – самую нежную книгу наших дней?
Терпеть не могу кому-нибудь сниться. Неправомерно, что другой человек имеет власть видеть вас беспомощного, в любом виде, а потом еще вправе морщиться и говорить: «Что за ерунда!» – между тем как он сам виноват в своих снах.
Отношения, которые не были прекращены своевременно и поэтому остались навсегда, так сказать запущенные отношения…
Анна Андреевна ездила в Москву, где между прочим ей предложили принять участие в руководстве работой Ленинградского отделения ВОКСа. Шилейко сказал:
– Ну тогда в Москве будет ВОКС populi, а в Ленинграде – ВОКС Dei[4].
В Советской России у людей, а может быть, только у интеллигентов, нет бюджета. Это обстоятельство крайне важное и почти в той же степени определяющее наш бытовой уклад, в какой его определяет то обстоятельство, что у нас нет денег. Не каждый из нас может позволить себе приобрести за 2 р. 50 коп. вязаные перчатки, никто из нас не покупает масло у частника. Но каждый может, незаметным для себя образом, пойти в ресторацию и поужинать там на 3 рубля, на 5 и на 10. Революция внушила нам глубокое недоверие и неискоренимое равнодушие к накоплению; она уничтожила в нас буржуазный интерес к деньгам как таковым, к деньгам на черный день и на всякий случай; к деньгам, хранящимся в банке и приносящим проценты, к деньгам, хранящимся в чулке и приносящим спокойствие.
Наплевательство делает наш бюджет скудным и легким по сравнению с бытом европейца среднего достатка. В сущности, это не столько легкость, сколько иллюзия легкости. Но мы дорожим этой иллюзией, – как бедные дети, не избалованные игрушками.
* * *Человек не может начать писать, не накопив известного запаса горечи. Вовсе не обязательно указывать ее источники, обязательно приобрести (потому что выдумать ее нельзя) интонацию подразумеваемой печали.
Икс принадлежит к числу тех людей, которые когда идут под руку с женщиной, то повисают на ней всей своей тяжестью – разумеется, сами того не замечая. Женщины, выходящие замуж за подобных людей, поступают неосмотрительно.
Нынешним летом я как-то отправилась в своем каюке с визитом к тете Хване. Разумеется, меня, как всегда, угощали. Как всегда, протестовать против водки в грязноватом стакане и нарезанных со свежим луком помидоров было так же невозможно, как протестовать против поцелуев тети Хвани или уверений Павла в том, что я его лучший друг. Спившийся фельдшер, он стал рыбаком, женившись на тете Хване. У него хранился затрепанный том Достоевского («Униженные и оскорбленные»), который он усердно читал.
Когда я вышла из хаты, положение вещей предстало передо мной в самом неблагоприятном свете. Усилился противный ветер, и море явно не предвещало ничего доброго; кроме того, я выпила, и это в самую жару, в час дня на солнцепеке. Вот что лежало на одной чашке весов; на другой чашке лежало то обстоятельство, что на мне не было ничего, кроме купального халата и купального костюма, следовательно, сухие пути возвращения на дачу были отрезаны. Кроме того, Павел спокойно заметил выпивавшему вместе с нами парнишке, что кого другого он, пожалуй, не выпустил бы в море по такой погоде, но Лидию Яковлевну!..
– О, Лидия Яковлевна, – сказала тетя Хваня, – да вы ее не знаете, да против нее тут на всем берегу ни один любитель ничего не стоит. Вот сейчас увидите!
Морское самолюбие едва ли не самое сильное и самое глупое из всех моих самолюбий. Оно неудержимо воспламеняется от самой элементарной лести и от самых сухих похвал. Я села в каюк, волнуемая желанием показать парнишке из дома отдыха, как Лидия Яковлевна отчаливает в дурную погоду. Тетя Хваня помахала ручкой, Павел Иванович, стоя на берегу, раскланивался с той безукоризненной вежливостью, которая отличала этого насмерть спившегося и полусгнившего человека.
Кстати, я уверена в том, что оба они действительно хорошо ко мне относились, что, будь они случайно трезвы в это утро, они все-таки не отпустили бы меня в море.
Мне твердо запомнилось это путешествие и то расчленение моего существа на плохо согласованные друг с другом части, которое я тогда испытала с особенной силой. Прежде всего имелось соображение о том, что если волна ударит сбоку и я не успею затабанить, то меня непременно опрокинет и я тогда непременно утону, потому что не смогу плавать в таком состоянии. Это соображение не оставляло меня, но оно существовало само по себе и никак не могло перейти ни в какое чувство, менее всего в чувство страха. Другая же часть сознания исправно отвечала за действия, необходимые для того, чтобы все-таки не утонуть.
У человека, работающего переутомленной головой, то же ощущение, что у гуляющего в тесных ботинках. Когда обувь жмет, ходьба перестает быть непрерывным, бессознательным действием и каждый шаг входит в светлое поле сознания. При переутомлении мы ощущаем физическое протекание силлогизма.
На книжном базаре, когда торговали писатели, над каждым киоском была вывешена табличка: здесь продает книги такой-то.
В. подслушала разговор двух барышень:
– Давай пойдем посмотрим на Эйхенбаума.
– Не стоит, он, кажется, не очень знаменитый.
Деревня Домкино, куда мы ездили из Задубья покупать рыбу, принадлежала когда-то астроному Глазенапу. Водившая нас по деревне крестьянка сказала Виктору Максимовичу, что бывший барин теперь в Ленинграде на хорошей работе – «он там звездосчетом».
Как-то вечером на пляже мы следили за пышной женщиной, купавшейся и очень настойчиво флиртовавшей. Между прочим, выходя из воды, она опиралась на плечо партнера и говорила спокойно: «Ах, я вся мокрая!»
Когда человек, пропустив последний трамвай, возвращается зимней ночью в санях, утомленный и недовольный прожитым днем, его сознание начинает заплетаться и путаться, хотя человек трезв. Тогда из неопределенности окружающих впечатлений отделяется и предстает глазам седока огромный зад и широко раскинувшаяся спина кучера. Совершенно независимо от натуральной величины извозчика он, в этом своем облике, всегда кажется подавляюще большим и намного превышающим размеры седока и саней вместе взятых, он всегда кажется взрослым человеком, неловко присевшим на игрушечную мебель. Близко приставленная к нашим глазам, как предмет, на который хотят обратить внимание близорукого, большая спина в темном армяке – неизменна; все же остальное, как то: дома, фонари, деревья, прохожие, встречные обгоняемые и обгоняющие извозчики, луна – движется мимо. Спина извозчика таинственна; она закрывает лошадь, везущую нас, и глубину улицы, по которой мы проезжаем; тем самым она закрывает перспективу нашего движения и его причину.
Вместо увозящей нас лошади мы видим на светлых местах только сопровождающую нас плоскую лошадиную тень, похожую не столько на лошадь, сколько на рыбу или на коня из Заболоцкого:
А бедный конь руками машет,То вытянется как налим,То восемь ног опять сверкаютВ его блестящем животе.Это тень, опрокинутая на снег, то усердно бежит вровень с санями, то вдруг как-то вкось смещается, как бы порываясь мордой и передними ногами достичь свой бегущий оригинал; то вдруг, при повороте, соскальзывает под полозья, с тем чтобы мигом развернуться с другой стороны саней.
1929Секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит, состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов. То есть ее жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя. Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты.
Жестикуляция в широком смысле слова, то есть все внешнее, «физическое» поведение человека бывало конструктивно только в эпохи устойчивых бытовых форм. Уже буржуазная культура с ее нивелирующими тенденциями враждебна этой конструкции. В период дворянской культуры, даже не столь давней (хотя бы начало XIX века), сложная соотнесенность условий определяла привычное поведение человека. Самая привычность могла образоваться только на основе устойчивых и ритуальных форм. Была ритуальность этикета, церемониалов и приличий; ритуальность религиозно-обрядовая, не только в церкви, но и дома; ритуальность чинопочитания и социальной и семейной иерархии. Кроме того, каждая социальная группа имела свое принудительное распределение времени. И это день ото дня повторявшееся распределение регулировалось не схемой обязанностей, но ритмическим импульсом жизни. В первой главе «Евгения Онегина» (впрочем, мои учителя учили меня, что литература является дефектным свидетельством о жизни) беспутная жизнь светского человека изображается как жизнь необыкновенно размеренная. Онегин каждый день встает в одно и то же время, потому что всегда ложится на рассвете. Он ежедневно отправляется на прогулку, обедает в ресторане, каждый вечер начинает театром, а заканчивает на балу. Быт светского бездельника оказывается предопределенным, как быт крестьянина, связанный работой и церковной службой, временем дня и силой обычая.
У нас же сейчас крестьянский быт как архаический, быть может, и является единственным изнутри предопределенным и необходимо привычным. Нас, городских людей, регулирует только служебное время. Человек без службы испытывает смущающую легкость от сознания, что он может поворачивать куски своей жизни в любую сторону, начиная от часа, когда он встает, и вплоть до часа, когда он отправляется в кино. Впрочем, он может ходить в кино на утренний сеанс, а учиться вечером; он может уйти из дому без завтрака и опоздать к обеду; он головокружительно свободен. И если у него не кружится голова, если он не задыхается в полете разорванных кусков времени, – это оттого, что устойчивость жизни заменена ему однообразием.
В старой, особенно дворянской, культуре внешнее поведение человека, помимо привычки, определялось принципом социальной дифференциации. В основе бытового склада лежала глубокая уверенность в том, что люди разнокачественны не только и не столько индивидуально, сколько социально, и в том, что дифференциация может и должна выражаться формальными признаками. Сословная одежда, позволявшая еще в первых десятилетиях XIX века отличать дворянина от буржуа и разночинца, не была только бренным покровом и украшением тела, но неотменяемым признаком социального качества, – признаком, прояснявшим и мотивировавшим жесты, – потому что в формальных элементах жестикуляции полагалось выражать необходимость повелевать или повиноваться, чувство собственного достоинства или трепет услужливости.
Церковный ритуал, придворный этикет, военный устав, салонный кодекс хорошего тона – все эти структуры включали в себя и оперировали законченными и нормативными системами жестикуляции, исходившими из единой предпосылки о контактах неравного и о внешнем выражении неравенства.
В наше время, когда одежда главы правительства не должна отличаться от костюма любого служащего, выразительная жестикуляция запрещена по крайней мере на службе. Она пробивается тайком и бессистемно в чересчур заметном поклоне или чересчур нежной улыбке служебного подхалима. И это не потому, конечно, что стерлось различие между отдающими приказания и приказания выполняющими, но потому (и этому начало положил уже буржуазный строй), что власть и подчиненность признаются служебными состояниями человека, – между тем как во времена сословного мышления власть и подчиненность являлись органическими качествами человека, признаками той социальной породы, к которой он принадлежал. Вот почему образ внешнего поведения переходил за пределы своего необходимого применения и распространялся на весь обиход человека. Мы же знаем только профессиональную и, следовательно, условную упорядоченность жестов. Устав предписывает жесты военным, условия ремесла предписывают жесты официантам и парикмахерам, – но для нашего сознания это только признаки профессии, которые человек слагает с себя вместе с мундиром и прозодеждой.
В текущей жизни люди, незаметным для себя и, к счастью, незаметным для окружающих образом, производят множество мелких, необязательных и смутных движений. По временам мы встречаем бывших военных, для которых служба была больше, чем временным занятием; старых профессоров, всходивших на кафедру тогда, когда с кафедры можно было импонировать, профессоров со звучным голосом, бородой и комплекцией (Сакулин), – и их прекрасные движения кажутся нам занимательными и нарочными.
Что касается Анны Андреевны, натолкнувшей меня на все эти соображения, то ее жесты, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы – необыкновенно системны и выразительны, но то именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет жизненной системы, в которую они были бы включены. Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями.
События, протекающие только в сознании, могут достигать такого предела, после которого эмпирическое переживание уже ничему не может научить человека.
Хорошо и счастливо работается только тогда, когда работа заливает сознание. Я люблю писать по ночам, потому что ночью теряется рассеивающее ощущение движения времени. Днем только в самых редких случаях удается достигнуть этой окаменелости, глубокого безразличия к окружающему. День весь расчленен; он измеряется и управляется дробными величинами часов; причем каждый час имеет свою характеристику, настойчиво поддерживающую дробление. Одни часы ассоциативно связаны с профессиональными обязанностями, другие – с обедом (это сильное членение, дающее особую окраску часам предобеденным и послеобеденным), иные – с отдыхом. Словом, день очень заземлен, его этапы предназначены регулировать суету и не способствуют высокому оцепенению. Дневные часы наказывают нас отвратительным ощущением бестолковости, если мы нарушаем и смешиваем их функции; два часа дня и четыре часа – очень разные вещи. Два часа и четыре часа ночи – почти одно и то же. Все ночные часы в равной мере предназначены для сна; сон же представляется нам скорее потребностью, чем обязанностью. Пересилив эту потребность, мы чувствуем себя вправе искажать лицо ночи по нашему усмотрению. Ночные часы лишены индивидуальных признаков. Время не продвигается толчками, но сливается в поток, протекание которого неощутимо.
Человек за письменным столом слышит, как пульсирует кровь в его висках, разгоряченных работой. Он смотрит непонимающими глазами на циферблат, по которому без определенной цели движется часовая стрелка, до самого утра не имеющая власти над человеком.
Недавно у меня провел вечер Заболоцкий. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовом, белокуром и почти неестественно чистеньком. У него гладкое, немного туповатое лицо, на котором обращают внимание только неожиданные круглые очки и светлые, несколько странные глаза: странные, вероятно, потому, что они почти лишены ресниц и почти лишены выражения.
– Николай Алексеевич, помните, вы много говорили мне прошлой весной, что нужно и можно стать богатым. Вы оставили эти мысли?
– Да, я совсем оставил эти мысли.
– Знаете, для нас деньги больше всего соблазнительны тем, что они – время, время для своей работы.
– Есть другой способ выиграть время…
Он замолчал.
– Я знаю, что вы хотели сказать: что нужно по возможности устранять из жизни все, для чего нужны деньги.
– Да, без этого нельзя.
А прошлой весной он напомнил мне Подростка из Достоевского фантастической идеей возможного богатства – идеей, лишенной каких бы то ни было контактов с миром нашей практики.
Не столько объективный возраст, сколько крутые психологические сломы определяют переход от возраста к возрасту. Вероятно, молодость человека кончается главным образом от ощущения, что есть разные вещи, которые уже «нельзя делать» или «поздно начинать». Но юность человека кончается иным и гораздо более катастрофическим образом. Это происходит именно в тот момент (момент, который иногда может быть определен календарной датой), когда человеку перестает казаться, что жизнь еще начнется, когда он внезапно, и всегда с болью, обнаруживает, что она уже началась.
Юность – это время приготовлений к жизни, и притом приготовлений не по существу. Как известно, каждый хороший мальчик хочет быть кондуктором или клоуном в цирке, и только самые скучные из мальчиков, хотевших «быть доктором», действительно кончают медицинский факультет. Хотеть быть кондуктором для интеллигентского ребенка психологически обязательно, потому что юность – это пора, когда человек не знает своего будущего и не умеет подсчитывать время (это умение еще быстрее старит людей, чем умение считать деньги).
Юность имеет занятия, но несовместима с профессией. В жизни человека есть период, когда он мыслит себя господином неисчерпаемого запаса времени. Не по избытку здоровья, воли, жизнерадостности, но по избытку через край бьющего времени безошибочнее всего узнаётся юность. У взрослого человека время исчезает бесследно и навсегда. Так начинается приобщение к профессии. Ко всем профессиональным болезням следовало бы прибавить болезнь профессиональности – горячку недостающего времени, изнурительное психическое состояние, похожее на азарт и на муки совести.
В восемнадцать лет я считала, что всякий человек должен прежде всего получить общую естественно-научную подготовку, поэтому я поступила на химическое отделение, где училась прескверно. Еще я предполагала основательно изучить философию, прежде чем перейти к непосредственно интересующим меня предметам. Это была юность; мне казалось, что я стою у входа в неисчерпаемые пространства времени. В двадцать лет мне показалось, что я не успею сдать зачеты, какие требовались для перехода с первого на второй курс Инст. ист. искусств, – с тех пор я часто и подолгу бездельничала, но у меня уже никогда не было времени. Вначале Институт выглядел ничем не лучше моих предыдущих начинаний; что это серьезно, я знала про себя, угадывая серьезность по боковым признакам, как при игре в теннис по звуку мяча узнаёшь, правилен ли удар.
Это был конец юности. Он сопровождался рядом психологических изменений. Время стало цениться как товар, по отношению к которому спрос превышает предложение. Жизнь перестала быть приготовлением к жизни. Будущее перестало быть сумасшедшим светящимся туманом; оно прояснилось в формулу «профессиональный литератор» и стало предвидимым с точностью до рецензий в органах печати. А главное – выяснился будущий человек. В детстве и юности человек делится на две части: на конкретно существующего, временного человека и на настоящего человека, пока существующего только предположительно. Первый думает о втором, как дети думают об обещанном госте: жадно, фантастически, недоверчиво и противоречиво. Вначале обе части далеко отстоят друг от друга. Так далеко, что совершенно реальные маленькие мальчики, вглядываясь в своего потенциального двойника, не могут установить с точностью – кондуктор он или полководец. Постепенно оба человека сближаются; сближаются они постепенно, а сливаются мгновенно и болезненно.
Юность – время романтических взаимоотношений с собственным, еще не найденным двойником; у взрослых начинается развитие единого человека. Возраст определяется рядом признаков: паспортом, самочувствием, внешним видом (часто дело не в постарении, а в комплекции, высокие и толстые люди рано становятся взрослыми), определяется общественным положением и сексуальным ростом человека.
Умственное движение человека – непрерывный замкнутый процесс, развивающийся протеканием, а не толчками. Между тем познание времени целиком основано на счете, а счет регистрирует условные отрезки с их условными границами. Счет весь на крутых толчках и катастрофических сломах сознания: новый год наступает 31 декабря ровно в 12 часов, человек стареет на год в день своего рождения.
Анна Андреевна заговорила со мной о Б., нашей студентке, которая приходила к ней читать плохие стихи, ссылаясь, между прочим, на то, что она моя и Гуковского ученица.
Я: – Б. говорила мне, что пишет стихи. Но она предупредила меня, что это, собственно, не стихи, а откровения женской души, и я, убоявшись, не настаивала.
А. А. (ледяным голосом): – Да, знаете, когда в стихах дело доходит до души, то хуже этого ничего не бывает.
Анна Андреевна говорит: «Я иногда с ужасом смотрю напечатанные черновики поэтов. Напрасно думают, что это для всех годится. Черновики полностью выдерживает один Пушкин».
А. А. сказала, благосклонно улыбаясь: «В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен. Он тогда написал про меня: „столпничество на паркете“».
Добывание каждой жизненной ценности сопровождается избыточной тратой энергии или материала. Иногда перерасход очень значителен. Для того чтобы мгновенья настоящего счастья и страдания приобрели вес, по-видимому, нужно, чтобы на них всею тяжестью давили массы безвозвратно потерянного времени.
Жить по-настоящему, не растрачивая лишнего, нельзя, как нельзя сделать фильм, не истратив большого количества пленки, как нельзя писать, не вымарывая в черновиках. Принцип безошибочного попадания здесь ни к чему. Только чернорабочий труд расценивается по количеству времени, реально затраченному на данный трудовой процесс: квалифицированный труд измеряется количеством времени и сил, сделавшим данный трудовой процесс возможным. Так же и квалифицированные переживания.
И еще одно. Всякая формула внутреннего опыта является выжимкой из большой массы недифференцированных и как будто бесцельных впечатлений. Иногда нужно загубить два месяца, прожить их в сумбуре обрывающихся ощущений, для того чтобы придумать одну фразу.
Я говорю о фразе, потому что для меня найденная формула – лучшая из наград. Все, не выраженное в слове (вслух или про себя), не имеет для меня реальности, вернее, я не имею для него органов восприятия. Выразить вещь в слове – не значит наименовать ее терминологически. Необходимо в каждом данном случае выдумать формулу, маленькую структуру, микрокосм сюжета, со своим собственным разрешением. Когда я вижу прекрасный пейзаж, не имея для него формулы, я испытываю ощущение ненужности происходящего, как если б я грызла семечки на лавочке в пыльном сквере. Все радости и горести жизни доходят какими-то словесными сгустками, как бы навязчивыми цитатами, надолго застывающими в сознании.