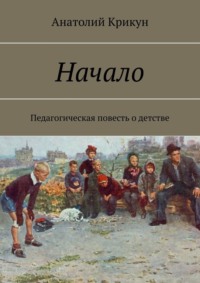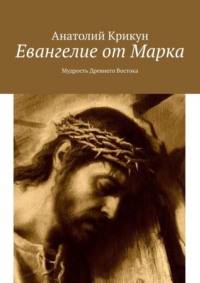Полная версия
Жизнь прожить – не поле перейти. Книга 3. Семья
воздуха вползли через порог в нагретый дом. В дверях
появилась с непокрытой головой Наталья. Растрёпанные
волосы, раскрасневшееся лицо, расхристанный чёрный
жакет говорили о спешке и волнении. После свадьбы Степана она прибрала нерешительного в любовных делах Василия к своим хозяйским рукам и зачастила в гости к Дробкам, которые смирились и думали о складывающейся новой семье. Все дети остепенились, пришла пора
зрелости. Наталья уже готовилась к свадьбе, а Василий, сговорившись с мужиками и в паре с начальствующим над ними Петром, в небольшом отряде ушёл в лес, не спросивши отца на помощь повстанцам. Увидев рано утром одного из повстанцев, опасливо крадущегося вдоль полутёмной улицы, она поначалу не сообразила к чему бы это, а придя домой и посидев, вдруг взвилась и понеслась как гусь, махая руками как крыльями, вдоль улицы к дому
Фёдора. Наталья ворвалась в дом. Меланья выскочила с кухни и замахала руками:
– Т-с-с! Не буди дитя! Твой шармач с отцом где-то во дворе. Наталья осторожно прикрыла дверь и быстро слетела с крыльца. Василий с охапкой дров стоял у бани с
виноватым видом. Наталья с налёту боднула его головой в грудь. Дрова посыпались ей на ноги, а Василий сел в
сугроб. Наталья стала бить его кулаками в грудь, а потом рухнула на него и заревела, как малая девчушка на весь двор. В сарае подпевая ей замычала корова. Из сарая вышел Фёдор с вилами, с крыльца спускался, накинув на плечи шинель, Степан.
– Цыц!, -рявкнул Фёдор.– Хватит голосить! Живой дурень и слёз твоих, Наталья, не стоит. Сядемте на время, разговор есть, а ты, Наталья, в дом иди скорей к бабам, а то
застудишь задницу. На мальца взгляни, да не сглазь. Я твои глаза знаю, Ваську как телка водишь, а он – не мычит и не телится. Когда Наталья скрылась в доме Фёдора, тот присел на крыльце и пригласил сыновей сесть с двух боков. Степан сел по правую руку, Василий, с опаской присел, слева- знал что рука у отца тяжёлая. Достал из кармана полушубка кисет с табаком, но Фёдор так зыркнул на него глазами, что тот быстро отправил его назад в карман.
– Это кто тебя обучил табаком греться да по лесам шастать? Бросай баловство! Скажи ка лучше, что тебе в
доме не сидится? Теперь, поджав хвост, как битый пёс,
прибёг, а нам за тебя ответ держать?
– Сам отвечу, коли придётся перед властью, а от мужиков отстать не хотел, за дело общее шёл. Помнишь, батя, как продотряд у нас после Колчака по нашим амбарам
прошедшего, то что успели схоронить, всё подчистую
выгреб, как ты проклятья сыпал. Власти говорили, что
продотряды отменили и продразвёрстку ввели, только нам
от того не полегчало. А Лёшка Лешак к нам и чехов водил да свой зад от отца родного повредил, а теперь в бедноту записался и в комитет выбился и активисты вышел. А за хлебушком когда пришли, Лешак всё что вынюхал, лазя по дворам, и выложил. Всех крепких мужиков, гнида, разорил и к нам заглянул. Много с той поры у тебя, батя, хлебушка осталось?… Молчишь! Лешака сейчас нечего бояться. Сгинул он не без нашей помощи. Если хочешь отыскать, то в лесу на осине он болтается. Только ждите по осени опять явятся комитетчики и опять песни запоёте под их ружья-балалайки. Они с наших хлебов кормятся, так как ни лошади, ни своего хлебушка у них нет, зато их власть советская и голубит. Деревня наша не безбедная и мимо нас их телеги не проедут. В городе сколько чинов-
прихлебателей развелось, да в армии красной, пишут, скоро пять мильонов будет. А других армий сколько развелось:
и белые, и интервенты со всего мира, и лесные разбойники,
и городские бандиты. У царя столько не было! Заводы
стоят, торговли нет, а всем кушать подай. У Степана, вот, ещё один рот появился и его кормить надо. Так что, нам на них задарма батрачить? Мужики в лесу решили, что если развёрстка не отменится, землю пахать, чтоб не
надрываться для того чтоб досыта есть этой власти, а чтоб семье на прокорм хватило, а если они у мужика всё заберут и его изведут, то через год и сами сдохнут.
– Экие мудрецы- экономисты, – прервал его отец. – Хотите власть на колени поставить! А не боитесь, что она вас подомнёт и по миру пустит и от мудрствований ваших только пшик и выйдет и самим хуже станет! Всё у вас загребут: и земельку и инвентарь и лошадок и беднякам в артели передадут и в ваши дома заселят, а вас на выселки в Сибирь упекут и на пустом месте бросят. Земли там край непочатый и ежели жить захотите, то и там для комуннии землю распашите. У бедноты то брюхо, не как у тебя устроено. Они и потерпеть могут и нужду знают. А ты, хоть один годок на Урале голодный помнишь? Молчишь? Нет у тебя на памяти этого. Блины со сметаной за столом не
переводились- вот и привыкло твоё брюхо к сытости и не ты брюхом командуешь, а оно тебя в лес водит. Мать тебя молоком силком поила, а ты пряничка из лавки ждал. Если власть не глупая, то дойдёт до понимания, как смерти своей избежать. Самый грозный царь- это голод. Он всех на место поставит и мозги вправит. Так что не гневите бога,
перетерпите. Авось да небось не спасут от беды, от беды спасут – труды. Сам помирай, а поле засевай. Тебе,
Василий, вот моё решение – если власти в тюрьму не
сгребут, то через неделю, чтоб с Натальей сошёлся. Она тебя в руках удержит и дурь из головы выбьет. Дом у неё пустой, а землю вам выделят. С весны, чтоб всё засеял; в хозяйство, что на первый случай надобно, выделим, пора жить своим умом. Нам с матерью пора внуков нянчить
насколько хватит сил. Тебе Степан советов давать
надобности нет- своя голова на плечах. Служба службой, а земля тебя ждёт. Мы со старухой не вечные и хозяйство тебе с Марией доверю. Дом с тобой рубили, места всем хватит, да и Марии будет надёжнее у нас. Пусть Данила со своей молодухой хозяйствует, а ты с Марией и их не
забывай, в случае чего, поможете. А теперь за стол- бабы
заждались.
К севу большая часть мужиков – повстанцев занялось мирным трудом.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пётр, который в лес ушёл с винтовкой и знал
что за это последует, пристал к одному из многочисленных
отрядов казаков-атаманчиков, кормившихся от войны набегами на склады и обывателей и не признававшие никаких властей. Лишь бы укрыться, выжить, а там- как повезёт- такая вот программа! А если власть отыщет и прижмёт- значит не судьба найти покой в бушующем море.
Из деревни он пропал. Рушилась веками устоявшаяся жизнь, Потоком событий люди вырывались из привычной среды и в пучине этого сокрушительного потока, пытаясь не захлебнуться и утонуть, искали опору, которая могла помочь им сохраниться при подвижной, часто сменяющейся властью, которая могла сохранить своё существование террором по отношению к противникам, отступникам и заблудшим. А это плодило тех, кто считал всякую власть исчадьем ада, кричал: «Анархия- мать порядка!», давал волю инстинктам и призывал крушить всё, что связано с властью. Многие же вспоминали спокойные времена, кляли батюшку-царя, выпустившего власть из рук под
улюлюканье революционеров и либералов и готовы были
принять любую власть, что прекратит войну и даст
спокойствие. Поток событий колебал и рушил веру, плодил грехи и заставлял искать убежище, чтоб сохранить самое ценное- жизнь. Миллионы покинули пределы отечества.
Животный инстинкт заставлял многих бросать семьи,
устроенный быт, и искать убежище, как дикий зверь. В надежде, чем и как- угодно, добыть средства
существования и хоть на время избавиться от власти, которая объявила охоту на этих отчаявшихся и одичавших особей, которые раньше считали себя людьми, а нынче ощущали загнанными волками. «Великие времена» ломки сознания и привычной жизни людей- окаянные времена!
Этим потоком событий Пётр, как щепка в половодье, был занесён в «разбойничью артель зленных лесных
братьев» вынужденных скрываться от властей, против которых, вольно или невольно согрешили. Надежды на лучшее были хлипкими и призрачными… но как жить
по-другому они не могли определиться. Пусть будет- что будет!
Маленький отряд с атаманчиком-шишкарём, имевшим авторитет удачливого партизана, который сражался и с белыми и с красными, устроил лагерь-лежбище в лесу. Набеги на «злачные места» чтоб подкормиться скрашивали
тяжкий лесной быт с постоянными страхами быть
обнаруженными. В предгорьях Южного Урала, где лесостепь сменялась тайгой, бесконечно тянущейся до Тихого океана, где с жестокими боями по горным дорогам пробивалась партизанская армия Василия Блюхера и были
разбросаны глухие башкирские деревни перемеживающиеся с русскими поселениями пахарей и горнорабочих и хуторами латышей переселенцев, было легко укрыться. Здесь во время Гражданской войны неколебимо
сохранилась партизанская республика куда боялись сунуть нос и белочехи и колчаковцы. Сюда, как сухую степную траву перекати-поле, жестокими ветрами междоусобной
войны замело и Петра и сотни неприкаянных скитальцев с
оружием в руках и грехами против красной власти. В лесных чащобах, землянках, охотничьих сторожках, пещерах и хуторах можно было найти укрытие, надеясь на себя и на тех, кто «лесным братьям» сочувствовал.
Пётр в маленьком лесном братстве близко ни с кем не сошёлся, был замкнут и одна мысль терзала его: « Почему судьба никак не повернётся к нему своим светлым ликом, чего ему не хватает, чтоб уверенно и прямо идти по жизни?» Ответ найти не мог и винить было некого.
«Жизнь, если в ней есть смысл, должна вывести его на путь
Который определяет не он, а время в котором он
барахтался как плохой пловец в бурном потоке и не может понять – зачем ему такое наказание. Вот у Степана жизнь складно идёт, а я почему невезучий?» Особенно муторно было на душе долгими осенними ночами когда не шёл сон, а одолевали тяжёлые мысли в сырой землянке под
монотонный, унылый шёпот дождя. Предстоящая зимовка пугала. « Где выход?»
В лесной лагерь-логовище изредка наведывалась, из
затерянного в лесной низине крепкого хуторского хозяйства, красивая, краснощёкая, голубоглазая, с
длинными светлыми волосами, лежащими на голове туго
заплетённой косой, Вилма – давняя переселенка в здешние места с берегов продуваемой ветрами и орошаемой
прохладными дождиками Балтики. Её звонкий голос с
инородческим акцентом и весёлый настрой в общении с лесной братвой вносили в унылый быт, завшивевших и пропахших мужскими запахами и потом мужиков- разбойников, заряд бодрости и призрачной надежды. Вилма
зорким, цепким взглядом высматривала очередную жертву среди обитателей лагеря, которая сгодилась бы ей в хозяйстве и обустройстве жизни хоть на короткое время. Уже при первом взгляде на Петра- новобранца лесной
шайки, она оценивающим взглядом отметила его складную
фигуру, стать и приятное лицо обрамлённое светлой бородкой и усами и волнистыми льняными волосам
выбивающимися из- под фуражки. Навела о нём справки из которых выяснила только то, что- не женат и
малоразговорчив. Вилма, сначала по требованию, а потом по доброй воле доставляла в лагерь мёд, молоко и иную
кормёжку (в хозяйстве имелись пчёлы, две коровы, мелкий скот и огород). Обменивала это на шмотки, которыми
промышляла банда в своих набегах. Выглядывала себе исправных работников, которые приживалами помогали ей в хозяйстве с позволения атамана и были мимолётными кавалерами у молодой вдовы. Пётр узнал, что мужа своего – латыша-переселенца, который не смог подарить ей детей и ласк потребных её темпераменту, она в домашней ссоре, уличив его в супружеской измене, ударила топором, да так неудачно, что тот от горячности супруги, нервного
потрясения и загноившейся пустяковой раны
скоропостижно умер. Без слёз и причитаний схоронила его на задах за огородом. На могиле не поставила
католического креста, а посадила ель. Те, кто побывал у Вилмы в работниках и ухажёрах, нахваливали вдовушку за ласки, оценивали её тело, но бранили за характер. Хотя и
зубоскалили, но в душе надеялись, что она снова остановит свой взгляд на них.
Во время очередного, тщательно организованного похода за пропитанием на складское помещение дальнего
железоделательного заводика, который, к удивлению, дымил и давал продукцию и в посёлке при заводике не перевелись богатенькие обыватели припрятавшие своё барахлишко от властей (власти грабили так же жестоко как и бандиты, но соблюдали видимость законности и социальной справедливости), Пётр получил лёгкое ранение от мальчишки-охранника, « вохровца» (отряд вооружённой охраны), плохо обученного и неосторожного. «Лесной брат», товарищ по несчастью уберёг Петра нанеся сторожу
удар окованным прикладом в лицо. Присел рядом с упавшим и стал стягивать со стонущего новые сапоги. Пётр
стоял рядом и тупо, бездумно смотрел на эту сцену. Товарищ поднял глаза, посмотрел в бледное лицо Петра, освещаемое пожаром от горевшей конторки завода. Со склада напавшие вытаскивали и грузили на две телеги всё, что могло облегчить их лесной быт.
– Что глядишь?… Не тебе судить! Если хочешь пожалеть
сосунка, то лучше добей, чтоб не мучился. Он тебя прикончить мог. Тут жалости нет! Или ты его- либо он- тебя!
Пётр глянул на окровавленное лицо парня, видел как тухнут глаза, умоляюще глядя на него и искривляются в неестественной улыбке губы. Холодная дрожь сотрясла тело Петра. Он резко бросился, чтоб скорее забыть эту
страшную картину в открытые двери склада, чтобы что-то
схватить и бросить в телегу. Попалась связка зимних валенок. «Сгодятся» – мелькнуло в отяжелевшей от прилива крови голове Петра.
Пустяковая рана в условиях лесного быта в сырой землянке обернулась через несколько дней загниванием, горячкой, бредом и потерей сознания. В один из моментов прояснения, когда Пётр с закрытыми глазами лежал пластом на палатях, устланных еловыми ветками и
высохшим сеном, укрытый холодным рваным одеялом, услышал обрывки разговора вислоусого и заросшего широкой бородой атамана с ординарцем:
Ты бы, отвёз бедолагу на хутор к Вилме. Заметил я, что она его отличила и глаз положила… Может примет его, а нам он сейчас без надобности. Ещё занесёт какую- нибудь болезнь-лихоманку и все лежать будем. А если хуторянка его не примет, то сам знаешь что сделать. Схорони, и чтоб никто не знал, а винтовку его почисть и оставь. Всё ясно!
Ординарец кивнул головой:
– Что тут не понять, исполню всё как следует. А Вилме что передать?
– Пусть жратвы побольше запасает, да к нам дороги не забывает. Передай, что мы её не оставим и если что – то всегда достанем.
Тело Петра, укрытое старым с прорехами тулупом несколько часов тряслось на телеге по лесным тропам и склонам до хутора затерявшегося в лесной чаще, где был расчищен и выжжен участок для огорода и клин для пашни.
Два десятка ульев стояло ещё в полисаде и не были убраны в омшанник. Две коровы и телок с дюжиной овец паслись на опушке. Двор был широкий, а дом крепкий,
пятистенный, с обширными сенями и навесом над широким и высоким крыльцом. О чём говорили ординарец с хозяйкой хутора Пётр не слышал. Всю дорогу до хутора возница был молчалив, а Пётр бесчувственным. Очнулся в тёплой постели застеленной тёмной простынью, под ватным одеялом. Дом был хорошо протоплен и, проникающее под одеяло тепло
добавляло жару воспалённому телу и гнало из него липкий пот. Стекая со лба, тёплый ручеёк торил дорожку по небритым щекам и застревал в бороде. Хозяйка, плотная телом и разрумяненная, хлопотала у печи исторгавшей запахи мяса и варёного в чугуне картофеля. На
приглушённое покашливание Петра и скрип кровати
повернула голову и, отметив пристальным взглядом, что больной постоялец очнулся, подошла к нему и,
склонившись, заглянула в глаза. Белые распущеннее,
роскошные волосы хозяйки легли на плечи и грудь Петра, а
губы коснулись лба.
– Да ты, красавец, видать, пришёл в себя и дышишь ровно, а я уж грешным делом думала, что богу душу отдашь, а мне
только хлопот доставишь.
Провела мягкой, тёплой ладонью по мокрому лбу.
Принесла холодное мокрое полотенце, утёрла им лицо и положила на лоб.
– Что скажешь, молодец? … Хорошо ли тебе?
– Спасибо, хозяйка, – прохрипел Пётр.
– Ну, вот и голос подал -значит жить хочешь. Над чугунком горячим картофельным духом подышишь и молочка с мёдом примешь, глядишь и на ноги встанешь. В берлоге лесной простуду нашёл, а шерстью медвежьей не оброс. Я тебя отогрею, только мне не противься. Я травами лечить обучена и болезни твои изгоню, а ты пока не двигайся и силы береги. Тебе не только тело, но и душу лечит надобно. Как окрепнешь в баньке из тебя злой дух выгоню.
Вечером, укладываясь спать, Вилма прилегла рядом на широкой кровати, на тёплую перину что постелила, в ночной рубашке. Положила свою руку на грудь Петра. Всю ночь периодически щупала его лоб, теребила курчавые
спутанные волосы и гладила грудь и живот. Временами тяжело вздыхала, думая о чём-то своём – тайном.
На следующий день хозяйка жарко истопила баню и осторожно подсадила обнажённого Петра на полок. Понемногу поддавала пару плеская на раскалённые камни
тёмный отвар из трав с медоносных лугов. По давно не мытому телу потекли тёмные ручейки. Тепло входило в тело, которое освобождалось от тяжести и делалось невесомым и послушным. Вилма вышла в предбанник вошла с заваренным в кипятке веником и вошла в баню обнажённой. Пётр смутился и пытался отвести взор от плотного сдобного тела и тугой груди не знавшей
прикосновения губ младенца.
– Что нос воротишь, или я неприятная… А, может, ты ещё баб голых не щупал.
Пётр закашлялся и перевёл взгляд на нежданную банщицу.
Ладное, розовое тело её дышало здоровьем и похотью. У
Петра закружилась голова в которую ударила кровь и потемнело в глазах. Отметив, что Пётр ослаб, Вилма уложила его на полок и, сначала мягко, а потом сё сильнее,
стала мягкими движениями веником выбивать хворь из его груди и спины. Пётр, лёжа на спине, видел её
раскрасневшееся лицо с масляно блестевшими глазами и колышащиеся перед его глазами груди с красными
разбухшими сосками и чувствовал как тело становилось лёгким, а мысли путаными и тяжёлыми. Вилма продолжала колдовать над его телом, сдирая мягкой липовой мочалкой
остатки неустроенной лесной жизни, мяла мышцы и гладила кожу. Её руки, грудь и живот касались тела Пётра.
Кровь приливала к голове и пробуждала в теле угасшие и
дремавшие силы.
– Ты, у меня ещё полетаешь, голубок, – усмехнулась
Вилма глядя призывно прямо в глаза Петру. Закончив
хлопотать над крепким, мускулистым телом, ножницами
подровняла его бородку и усы, отошла в сторону и оценивающе посмотрела на свою работу.
– Так-то, лучше, хоть в кавалеры записывай лесного бродягу! Рана твоя заживилась.
Отёрла тело жёстким льняным полотенцем, обрядила в
отглаженное и постиранное мужнино бельё, выбросив
Петровы исподники. Тот не сопротивлялся и покорно исполнял всё как малый ребёнок. В хорошо протопленном доме уложила на мягкую, взбитую перину застеленную белоснежной простынью, и укрыла толстым, стёганым, зимним одеялом, напоив настоем из трав несущих запахи лета. Согревшись и пропотев Пётр провалился, как в тёмный бездонный колодец, в забытьё. Радужные круги перед глазами сначала преобразились в звёздное небо чёрого бархата, а затем тёмное сознание родило сладостный сон, в котором ласковые руки матери гладили его лицо и перебирали мягкие, кучерявые, шёлковые волосы. А может, это был и не сон.
Проснувшись, когда за окном уже начало смеркаться,
Пётр ощутил прилив сил и дикий голод. Вилма хлопотала
накрывая стол. Запах светлого самогона второй перегонки
и мяса витал в доме. Вилма была уже навеселе.
– Вставай, голубчик! Пора и честь знать. Глянь, какой
румяный, словно сдобный калач! Давай подкрепимся; не
всё же моей водочкой дружков твоих ненасытных поить.
Глотки у них лужёные, а желудки ненасытные. Кто б меня
защитил от их ухаживаний? От них благодарности не
добьёшься, а под монастырь на кладбище могут подвести.
Чего ты к ним прибился?
Пётр выбрался из под одеяла, ступнями ощупал прохладный пол. Его отстиранная одежда лежала на табурете у кравати. Тихо, сам себе, под нос пробурчал:
– Кабы знать куда приткнуться?
– Носки вязаные натяни, да портки накинь, ужинать будем.
За окном моросил нудный, мелкий, осенний дождик,
навевающий тоску. Небо, затянутое тёмными тучами, укрывало ими землю, оплакивая уход тепла и предвещая
приход холодов. Холодно было и в душе Петра. « Скорее
бы эта волынка кончалась. Глупо цепляться за то чего не
не вернуть. Всем миром, что под белым флагом собрался,
большевиков пытались сковырнуть, да видно крепкие корни они в народе пустили. Море крови пролитая между братьями и единоверцами скорого примирения не даст.
Зачем мою кровь в это море добавлять! Тридцать лет дураку, а что, кроме войны, видел то! За ней, проклятой, ни труда мирного, ни семьи не завёл, а только жизнь свою на кон ставил. Авось, власти дальше Сибири не сошлют, а и там жизнь есть, а муки терпеть уже привык, может бог поможет, если свинья не съест». Голос Вилмы прервал тяжёлые размышления и вернул Петра к действительности:
– Скоро дружки твои в лесу, как медведи, в спячку залягут, да вот только не отлежаться им до весны. Зимой властям сыскать их легче и шерсти, такой как у медведя, у них нет, а милиционеры-охотники на них найдутся. И охота тебе с ними дружбу водить?
Пётр молчал и работал челюстями. Здоровеющее тело требовало пищи. Хозяйка прибрала со стола, взбила перину
и подушки на постели, погасила лучину (ни керосина, ни свечей достать было невозможно) ь и удалилась за занавеску. Пётр с головой залез под одеяло. На тёплой перине, в натопленном доме сон быстро сморил его.
Проснулся в темноте от того, что горячее обнажённое тело хозяйки навалилось на него и обхватило тело руками, как железные обручи охватывают деревянную бочку. Пётр
не сопротивлялся обрушившимся на него ласкам, которые не разожгли в нём ответного пожара. Неделю Пётр ощущал себя, как в пьяном угаре по ночам, а днём пытался отвлечь себя ища любую мужскую работу, что сгодиться в хозяйстве зажиточной вдовой хуторянки. Через неделю посланец от лесных братьев навестил хозяйку, удивился, что Пётр не отдал богу душу, но и отъелся и порозовел.
Передал повеление атамана вернуться в лагерь, а хозяйке оставил нового постояльца- пожилого мужика с изрытым
оспой лицом под видом бездомного батрака – бродяги, для
снабжения продуктами и связи с бродягами лесными.
Хозяйка пыталась возразить и уговорить оставить Петра как
хворого и расторопного. Ответ получила резкий:
– Не твоего ума дело! Сказано тебе не кочевряжиться. Ты с нами крепко повязана и перед властями не отвертеться, а
если с ними шашни заведёшь, то знай, что атаман тебя достанет и на первой осине прикажет повесить. У него не
забалуешь! Понятно?
Хозяйка отвернула лицо от посланца и глянула на Петра.
Лицо её было искажено злобой и вопрошало: « Защити!»
Пока «товарищи» лазили по клетям и амбару, запасаясь на зиму, хозяйка улучила минутку и быстро зашептала на ухо:
– Брось ты их, перебегай ко мне; им всё одно- конец, а я
тебя укрою, да и власти, я слыхивала, помилуют тех кто по
лесам бегает и на ком крови нет. А ты – не душегуб! Заживём своей семьёй. Глянулся ты мне с первого раза, а сейчас тебя никому не отдам!
Пётр отшатнулся от неё:
– Спасибо хозяйка за ласку, не лежит у меня к тебе сердце
и ничего с этим поделать не могу. Прости, если что не так!
Моя судьба на небе пописана, так что прощай, и не поминай лихом.
Пётр увидел как остекленели и зажглись злым огнём
зелёные кошачьи глаза Вилмы и искривились губы:
– Смотри, не оступись! Я измены мужу не простила и
твоей судьбой не только бог распоряжается. Комиссары на таких удавку наденут, да и я обид не прощаю. Подумай
крепко.
– Я, пока, своему слову хозяин и против сердца своего не пойду. И власть мне не люба и ты, извини, над чувствами моими власти не имеешь. Прости ещё раз, что у нас так
вышло. Тебя я не забуду.
В лесном лагере Петра приняли без радости. Лишний едок и сосед по лежанке. был только в тягость, а
настоящего лесного братства не случилось. Каждый теперь был сам за себя. Нутром и звериным инстинктом « братья» доходили до понимания, что противостоять крепнувшей власти комиссаров, увлекшим беднейший народ за собой, они уже не смогут- власть была решительной и жестокой и народа бедного в России расплодилось. Надежды, что «бог -не выдаст, так собака – не съест», с каждым днём, несущим холода, таяли, как дым от костров поднимающийся над лесом, сбрасывающим золотую и багряную листву и
зеленеющим изумрудной хвоей. Подмерзающая земля укрывалась разноцветным одеялом из листьев и трав, а остужающий кровь холод проникал в сердца и поворачивал мысли в поисках тепла. Дым предательски выдавал места убежищ, а по первому снегу для умелых «охотников» легко