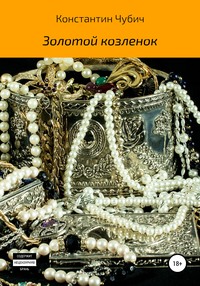Полная версия
Свадьба в Беляевке

Константин Чубич
Свадьба в Беляевке
Глава 1. Казачья свадьба в федеративной Беляевке
Слева, метрах в двухстах, через поле дозревающей, с ощетинившимися колосьями озимой пшеницы расположился хутор из одного ряда домов. Правый край хутора схоронился за буйной зеленью лесополосы.
В одном из домов, огороженных по старинке плетнём, скопление пролетариев свидетельствовало о чём-то грандиозном. Пёстрые одежды на казачках говорили о том, что предстоящая гулянка отвергает статус поминального события. Народоскопление в казачьих хуторах имеет под собой только две причины: за здравие или за упокой.
Дом − высокий квадратный, внушительных размеров, под шифером, окрашенный розовой краской, что могли позволить себе только зажиточные крестьяне, – обманчивым величием покорял глаз. На самом деле, сложен из самана, что сокрыла новомодная «шуба».
Иные крыты по-древнему, камышом. Они были узкими и длинными, с пристроенными лабазами да сенниками.
− У меня такое подозрение, что там сегодня будет весело, − выглядывая в проём приспущенного окна, не без основания предположил Жульдя-Бандя.
− Кому весело, а кому и не очень, – посочувствовал Фунтик, в большей степени не себе, а другу, который был на десять лет младше, с неистощимой бурлящей энергией.
В какой-то момент в розовом доме почувствовалось оживление. Народ дружно повысыпал на улицу, устремив взоры туда, где за лесополосой укрылась часть хутора.
Оттуда стал слышен истеричный вой автомобильных сирен, истошным визгом заполняющих пространство. Вой нарастал. Во дворе кто-то пальнул из дробовика, отчего революционно настроенная толпа, будто по сигналу, заулюлюкала, загигикала, засвистела, закричала.
Из-за леса вынырнула, влекомая парою лошадей, тачанка с претензией на летнюю карету. По такому случаю безобразно измалёванная яркими красками, в пёстрых лентах, с бантами даже на колёсных спицах. На тачанке восседали жених с невестой, фата в семь локтей которой развевалась на ветру, как пролетарское красное знамя во время военного парада.
Кучер флагманского экипажа − молодой франтовый казак в тельняшке и бескозырке с чёрными ленточками, стоял во весь рост, с тем чтобы подчеркнуть явление себя народу.
Он стеганул коней плёткой, дабы вызвать лёгкий ажиотаж среди хуторян. Впрочем, у праздничной процессии этим он вызвал противоположные чувства. Захлёбываясь от клубов дорожной пыли, все дружно и каждый по отдельности вспоминали его ни в чём не повинную родительницу.
За тачанкой − председательская чёрная «Волга», которую с трудом добыли в соседнем районе. «Волга» на деревенской свадьбе, да ещё и чёрная − это была несбыточная мечта колхозника. Детище Горьковского автозавода также в пёстрых лентах и бантах.
За «Волгой» − жигулёнок первой серии, синего цвета «Москвич-412» и два невзрачных горбатых запорожца, которые не были удостоены ни бантов, ни лент. К передним бамперам зазиков привязали разноцветные шары, половина которых полопалась. На суровых нитках безрадостно трепыхались огрызки.
Следом – «Беларусь» с начинённым пролетариями прицепом. Те истошно визжали и улюлюкали. Тракторист постоянно оборачивался, опасаясь, чтобы кто-нибудь из пассажиров сдуру не слетел с кузова.
Завершал процессию небольшой табунчик байкеров на мотоциклах, мопедах и веломоторчиках, оставлявших после себя густое серое облако пыли, перемешанное с сизыми клубами выхлопных газов.
Согласно табели о рангах табунчик возглавляла святая троица явистов, на лицах которых сохранялся отпечаток гранитной монументальности, будто они сопровождали генерального секретаря ЦК КПСС. В руках пассажира, того, что посередине, на держаке от лопаты весело трепетал кумачовый флаг.
Свадебный кортеж приближался к месту дислокации. Кучер, натягивая вожжи, осадил прыть животных, дабы те не проскочили мимо.
Оглобли флагманского экипажа, с супружеской парой на борту были обмотаны зелёной фольгой, что на данном историческом отрезке, на хуторе, да и в окрестностях, считалось аристократической блажью. Фольгу добыли в Тарасовке, на молокозаводе, где она применялась в качестве крышек для кефирных бутылок.
На спине у тёмно-гнедого с подпалинами жеребца ажурной тесьмой закрепили куклу, символ вытекающих из этого последствий. Кукла − в голубом воздушном платьице, с улыбкой, отображающей счастливое детство всех кукол на свете. Жеребец, мотая головой, вздрагивал всем телом, обороняясь от въедливых мух и оводов.
В одной упряжи с жеребцом − пегая кобыла с белым чулочком на передней правой ноге. Хомут был украшен венком из стеблей пшеницы, символизирующим благополучие. Колосья пшеницы, по-видимому, щекотали шею животного, и кобыла, всхрапывая, стригла ушами и нетерпеливо била копытом. А может, ей хотелось, чтобы её разнуздали, освободив от этих осточертевших удил, чтобы можно было спокойно пощипать травки.
Вездесущие мальчишки, отталкивая друг дружку, цеплялись за задний борт тарантаса, дабы увековечить себя в рассказах о героической поездке на свадебной тачанке.
Почётный кортеж «причалил» к квадратному дому, и из сарая один за другим стали взмывать в небо голуби, чего не было предусмотрено сценарием торжества. Всё это были проделки Нахалёнка, племянника невесты, который для эффекта бросил в голубятню кота.
Фунтик, с интересом взирающий за происходящим, прокомментировал:
− Торжественная сдача пи…ды в эксплуатацию.
Жульдя-Бандя хихикнул, впервые услышав столь ёмкое лаконичное и убедительное определение. Наблюдая за айсбергом материала, также не смог остаться равнодушным к событию:
− Невесту переспелых лет берёт тамбовский наш поэт (А. Пушкин). Жениться нужно на сиротах, Фунтик, − поучал он. − Адам был одним из тех счастливцев, у кого не было тёщи, да и Ева, заметим, не познала ядовитых желёз свекрови…
Тамбовского поэта, впрочем, с лёгкостью заменил Жорка Матюхин − слесарь со свинофермы, что через речку, в Атаманске. Забегая наперёд, скажем, что жених был невысокого роста и ещё более низкого интеллекта, женоподобный, с отсутствием какой-либо растительности на лице: прыщавый и слащавый до отвращения.
Жорка был патологическим неудачником и из двух зол непременно выбирал худшее, о чём и перешёптывались бабы у колодезя. Он не брезговал самогоном, а потребивши, становился злым кусачим зверьком. Находил обидчиков, коими являлись все, кто называл его Манюней, получал по морде, и с фингалами под глазами лицо его обретало более мужественные черты.
Единственным человеком, кому дозволялось употреблять это унизительное прозвище, была Сильва, Татьяна Сильченко − сочная стройная казачка. Она была на полголовы выше и на шесть лет старше. Нынче, правда, Татьяна Сильченко стала уже Матюхиной − Жоркиной женой.
Она не любила Манюню. В Жорке ей нравилось только приданое. Отдельная хата в самом престижном районе хутора, возле колодца, полуторагодовалая тёлка, два валуха, мотоцикл «Минск», с которым она лихо управлялась, три поросёнка да тысяча двести рублей деньгами. На это, впрочем, ни одна дура на хуторе и в его окрестностях не позарилась….
Глава 2. Лёгкий философский экспромт на тему деревни и пролетарской свадьбы
Жульдя-Бандя с упрёком подумал о том, что ни разу не был на свадьбе тамадой. На секунду он представил себя в этом качестве. Ему стало немного неудобно перед собственной биографией за то, что он − великий мастер словесной импровизации, так и не был удостоен чести стать свадебным распорядителем.
Он с отвращением созерцал свой лик, отражённый в оконном стекле. Он стал противен самому себе, по большей части оттого, что какой-то хам, пошляк и выскочка станет тешить себя вниманием к своим дешёвым, изъеденным веками прибауткам и тостам, зачатым с первой выпитой человечеством рюмкой, пошлым анекдотам, смысл которых постигается коллегиально.
Жульдя-Бандя почувствовал, как в нём закипает и просыпается тамада. Его нисколько не смущало то, что он лишь смутно представлял себе обряд жертвоприношения, когда свободу меняли на традиции. Утонув в собственных фантазиях, он не слышал, что сказал Фунтик, а лишь улыбнулся и кивнул, вызвав у дружка лёгкое подозрение. Потому что тот спросил: «Который час?»
Жульдя-Бандя ощутил пробуждение в себе великого мастера оригинального жанра и немного философа, хотя крестьяне вряд ли приемлют эту диалектическую материю. Впрочем, он явно себя переоценивал, поскольку в этом качестве мог претендовать разве что на помощника тамады.
− А вы знаете, кто был самым известным серийным убийцей?
Фунтик кинул недоумённый взгляд на дружка, поскольку смерть и свадьба были разнополыми понятиями.
− Мендельсон. Под его свадебный марш были загублены миллионы жизней.
Для подтверждения своих слов ветреный пассажир, просунув голову в щель окна, стал насвистывать похоронный марш, по-видимому, для жениха, по безвременно ушедшей свободе.
Фунтик усмехнулся:
− Шо-то у вас севодня симфоническое настроение.
− Лишь бы не камерное.
Друзья рассмеялись, нарушая устойчивую дремоту и покой купейного вагона. Перемена эмоций нисколько не заглушила в нём ответственного распорядителя торжества, который доминировал над прочим: рвался из груди к розовому дому, к народу, к пролетариям, к гарным строптивым казачкам, в конце концов.
Тамада в нём рычал, ревел, кричал, стремясь высвободиться из заточения, грызя невинную душу, не желая быть погребённым в душном вагоне пассажирского поезда.
Жульдя-Бандя уже вынашивал вступительную речь, начинённую азартом, задором и юмором, чего, он был уверен, будет недоставать на казачьей свадьбе.
− Предчувствуя последствия фатальные − заказывайте кольца обручальные (Д. Байрон), − прокомментировал он, обращаясь к Фунтику. − Без меня там будет скучно, − предположил неугомонный пассажир, отправив сочувствующий взгляд к розовому дому, где полным ходом шло десантирование со всех видов транспорта, в том числе и гужевого, с женихом и невестой на борту.
Невеста, не дожидаясь милости от природы, а тем паче от суженого, ловко выпрыгнула из тачанки, взяла его под руки и, не обращая внимания на фотографа, требующего запечатлеть исторический момент, повела во двор. Фотограф, дабы честно исполнить свой долг, стал грудью на пути молодой четы, заставив их остановиться.
Деревенский шут и балагур Хома, подкравшись сзади жениха, приставил к его голове рожки из указательного и среднего пальцев. Пальцы у Хомы были короткими и кривыми, и рожки получились не очень эффектными, хотя именно эта фотография, по мнению сексуального большинства, и получилась самой впечатляющей.
− Надо ехать в деревню, видит бог. Деревня, мой юный друг, − источник мироздания, − Жульдя-Бандя похлопал юношу, который был на десять лет старше, по плечу, − прародитель любого города, и в том числе Одессы, вскормившей вас своей воровской грудью.
Фунтик хихикнул, охотно принимая обвинение.
− Человек − раб утилитаризма!..
Дружок согласительно кивнул, понимая сие как нечто связанное с утилизацией.
− …Он порабощён мелкособственническим подходом к жизни: голубые унитазы, бассейны, жакузи и жалюзи, бары, кофиё в постель − всё это от лукавого! Голубой унитаз радует глаз: жопа к нему равнодушна. Если бы унитазы умели говорить, жопа узнала бы о себе много нового. А ты знаешь, чем отличаются богатые от бедных?
Дружок равнодушно поднял плечи, предположив всё же:
− Баблом.
− Разница между богатыми и бедными в том, что у первых более дорогие памятники, − Жульдя-Бандя секундной паузой отметил стоимость афоризма. − Я лично, − он обозначил себя рукой, − нисколько не прельщусь тем фактом, что меня похоронят в гробу из палисандра.
Фунтик хихикнул, что предопределяло какую-нибудь гадость:
− Тебя зароют как бешеную собаку… − он силился преувеличить величину сарказма. − В ящике из необструганных досок… и без креста…
Товарищ, не обращая внимания на поддёвки, продолжил тему деревенского бытия:
− А здесь, Фунтик, здесь истинная жизнь, первобытная, не обременённая цивилизацией. В деревне жизнь чиста и размеренна. А какой чудный воздух, − он полной грудью вдохнул протискивающегося в приоткрытое окно вагона знойного воздуха, продолжив монолог:
− Здесь весёлый, честный и открытый народ. Здесь веселятся и бьют морды друг дружке, искренне и без злости. Тебя когда-нибудь били просто так, без этих истеричных политических воззваний: «Бей вора!», «Гаси мерзавца!», «Мочи сволочь!»? − Жульдя-Бандя посмотрел на дружка, по большей степени определить реакцию на свои философские испражнения. − Здесь корм из натуральных продуктов, и люди пьют экологически чистый самогон.
Фунтик скривился, памятуя об этом чистом, свободном от генетических посягательств продукте.
− Деревня, друг мой, от бога, а город − от дьявола! Ты живёшь двадцать лет на одной площадке с соседями и не знаешь, как их зовут…
− Одну − Скумбрия, а другую − Роза Люксембург, вечно митингует на Потёмкинской лестнице.
Магический полёт мысли прервал поезд. Издав победный клич, он, грохоча вагонными сцепками, тронулся. Протащив несколько метров, остановился, раздражая пассажиров, кроме, пожалуй, одного, нашедшего в этом сюжете, который мог пролететь за одно мгновение, нечто одушевлённое и интригующе-притягательное.
В этот момент из соседнего купе, визжа и заливаясь смехом, выбежал малыш, стремглав помчавшись в сторону туалета. За ним устремилась молоденькая белобрысая мамаша в коротком голубом махровом халатике, угрожающе хлопая в ладоши:
− Догоню, догоню, догоню!
Это на какое-то время отвлекло Жульдю-Бандю от происходящих за окном событий. Он, улыбаясь, констатировал:
− Дети − это маленькие мерзавцы, и родители начинают понимать это, когда ребёнок перестаёт пить молоко и начинает пить кровь. У меня такое подозрение, что нас там будет не хватать, во всяком случае, меня уж точно, − вновь вернулся к происходящему за окном Жульдя-Бандя, пристально взирая на деревенскую свадьбу. − Господь неспроста остановил эту механическую сороконожку именно в этом месте и в этот час. Всевышний не желает лишать ни в чём не повинный народ моего могучего интеллекта. Собирайся! − приказал он тоном, не допускающим возражений.
− Жулик, ты шо, с дуба рухнул?! − Фунтик посмотрел на кореша в надежде, что это очередная шутка. − Это через почему мы должны выползать в этой дыре? Через потому, шо тебе захотелось трахнуть колхозницу?!
− Фунтик, а ты когда-нибудь пробовал колхозницу? − Жульдя-Бандя с упрёком посмотрел на дружка.
− Пробовал, жирноватая, − явно соврал товарищ, стыдливо уронив глаза.
Жульдя-Бандя тем временем выпрыгнул из штанов спортивного костюма. Перескакивая с ноги на ногу, «нырнул» в джинсы и, застёгивая пуговицы рубашки-безрукавки, стал мурлыкать, возможно, вдохновляя самого себя:
− Смело мы в бой пойдём за власть Советов и, как один, умрём в борьбе за это (ремейк, А. Колчак)…
Фунтик не только умирать, но и получать по морде от воинственных донских казаков не имел ни малейшего желания. Он краешком надежды полагался на то, что разум взбалмошного друга возобладает над бредовой идеей − непрошеными гостями ввалиться на деревенскую свадьбу, в самое логово пролетариев. Понимая, что это уже не шутка, он, стал нехотя собираться, рассчитывая на то, что поезд тронется, разрушив планы неугомонного друга.
Жульдя-Бандя кинул улыбчиво-витиеватый взор на бывшего узника яснополянской «здравницы»: − Не грусти, Фунтик! Гульнём пару дней и поедем дальше. Мы не можем оставить на произвол судьбы целую деревню, а может, даже две! Я не позволю превратить свадьбу в поминки! Что ты видел в своей пустой никчёмной жизни? Ты не был ни разу на деревенской свадьбе!
− Кретин! − бурчал Фунтик, не представляя повода, с которым они появятся на свадьбе. − Натурально, с мозгами поссорился, чувак.
Двери в тамбуре были заперты. В соседнем вагоне, к его удовлетворению, тоже.
− Подозрительно всё это, − зная врождённую халатность проводников, заподозрил самое страшное потенциальный гость, потенциальность которого, эта хрупкая материя, висела на волоске. В предпоследнем вагоне дверь, правда, на другую сторону, оказалась незапертой.
Глава 3. Безумный поступок Жульди-Банди. Друзья в федеративной Беляевке
Обойдя состав, беженцы спустились с насыпи. По пыльной дороге, соседствующей с железнодорожным полотном, вышли к тропе. Стёжка вела к колодцу, разделяющему хутор, неподалёку от розового дома. Вдалеке, за речкой, под горой с обгрызенным меловым боком, виднелось поселение.
Извилистая тропа, утонувшая в бархатном покрывале дозревающей пшеницы, привела к старому дубу, рядом с которым − длинная жердь с перекладиной на стойках. К короткому толстому концу бечёвкой был привязан камень, а на другом болталась цеберка на цепи, нацеленная на невысокое, в два локтя, круглое жерло из камня.
− Колодец системы «журавель», − толкнув ведро, пояснил, сведущий в этих вопросах Жульдя-Бандя.
Фунтик не без основания волновался, когда друзья вышли на финишную прямую. Ладошки покрылись холодным потом, в точности как перед романтическим свиданием со следователем.
Хутор, в котором молодожёны сочетались пролетарским браком, назывался Беляевкой. Беляевка делилась на три субъекта, являя собой полноценную федерацию.
Первая Беляевка, состоящая из дюжины домов, находилась в версте от средней.
Средняя, – с полусотней домов, где и происходили события, разделялась с первой
колхозным полем, восточную часть которого ежегодно арендовали у колхоза корейцы:
под кауны и цибулю.
Посреди поля, на холме, расположилось кладбище, которое осенью неизменно
распахивали и хуторянам, перед Пасхой, дабы привести в порядок могилки, приходилось
протаптывать тропинку, матеря тракториста Хому, коему не хотелось лишний раз
поднимать борону.
Впрочем, в деревне хоронили крайне редко, принуждая покойников и родственников к утомительному путешествию в Поповку. Там какая-никакая церквушка: деревянная, древняя и убогая, с батюшкой Валерием, своим мощным раскатистым басом доводившим до исступления богомольных старух.
К тому же, в Пасху на кладбище в Поповке было многолюднее и интереснее. Люди съезжались с окрестных хуторов: из Дячек, Мокроталовки, Мосаловки, Каюковки, Атаманска и, естественно, из федеративной Беляевки…
Между средней и третьей Беляевкой − речка Глубочка, узкою лентою крадущаяся в камышах, делала кульбит. Сюда неизвестно откуда завезли песок, организовав хуторской пляж. Сюда же на обеденную дойку пригоняли стадо коров. Коровы, спасаясь от жары и оводов, весь свой заслуженный перерыв проводили по самую шею в воде.
Тут же сновала, ныряла и бултыхалась детвора, нисколько не смущая крупнорогатых монстров. В июльскую жару идиллическая картина у излома речки напоминала эпоху Возрождения. Место это хуторяне называли Стойлом, и оно было излюбленным для всех: от мала до велика. Летом на Стойле до утра не умолкали казачьи песни и лихие игрища.
Нарушая законы пропорциональности, между второй и третьей Беляевкой, в тени огромных верб, укрылся дом отшельников Цындриных − один из всех построенный «мордой» к речке. Цындрины, старик со старухой, нажили себе единственного непутёвого сына, который не прижился в деревне, предпочитая городскую тюрьму.
Старый был наивен до безобразия, и его окончательной точкой зрения на те или иные международные события была та, которую проповедовали по телевизору.
В третьей Беляевке жили по большей части железнодорожники, своею сторублёвой зарплатой вызывавшие открытую зависть и скрытую ненависть колхозников. Железнодорожники же, в свою очередь, завидовали колхозникам, денно и нощно тащившим со свинофермы комбикорм, поэтому свиньи в лабазах хуторян были справные и ленивые, в отличие от поджарых, взращиваемых коллективно.
Впрочем, это жёсткое и обличающее слово крестьяне заменили на вполне демократичное − «носить». Получалось, что комбикорм со свинофермы они не крали, а носили. Государство обворовывало крестьян, выплачивая нищенское пособие, поскольку зарплатой это назвать было бы слишком громко, а колхозники «обносили» государство.
Этот паритет между государством и пролетариями существовал долгие годы, до тех пор, пока государство, не желая более быть обворованным крестьянами, не уничтожило корень зла − колхозы. Свой колхоз «Рассвет» крестьяне называли «Сорок лет без урожая», хотя он был вполне успешным и прибыльным…
…Итак, наши подопечные оказались в самом фешенебельном районе, в центре федеративной Беляевки, у колодца, куда бабы приходили посплетничать, а заодно и набрать питьевой воды.
Средняя Беляевка была длиною в полкилометра. Кое-где видны проплешины заброшенных хатёнок. В восьмидесятые годы произошла городская лихорадка. Крестьяне, уставшие получать за свой рабский труд жалкое пособие или трудодни, стали массово мигрировать в города.
Они, опасаясь, что вслед за налогами на фруктовые деревья, поросят, коров и овец, последуют налоги на гусей, кур, голубей, а возможно, на крыс и мышей, являющихся полноправными членами любого крестьянского хозяйства, стали покидать богом проклятую землю…
Фунтик, зная тяжёлый нрав донских казаков и искренне сомневающийся в благополучном исходе дня, остановился в надежде отрезвить сумасбродного товарища:
− Ну и шо ты будешь им базарить?..
Жульдя-Бандя хихикнул:
− Тебя я представлю королём Иордании − Мухамедом-вторым.
− А там же сейчас, кажись, не Мухамед?
− Ну… тогда губернатором острова Сомбреро или, на худой конец, районным уполномоченным по правам колхозников.
Фунтик скупо улыбнулся, зная, что крестьяне обладают единственным правом – пахать и сеять. Он шёл, как жертва на заклание, и его единственным желанием было вернуться в душный вагон поезда, который всё ещё стоял, будто дожидаясь своих ветреных пассажиров.
Он опять остановился, оставив на лице открытую форму неприязни:
− Послушайте сюда, Жулик! Шо я имею вам сказать. Шо если вас будут немножко бить, я буду много делать ноги! А шо бы ви хотели, шоб меня совсем убили из-за какого-то идиёта?! Шоб я перестал бить живой только потому, что какому-то… − Фунтик хотел сказать что-то оскорбительное, но дружок был на полголовы выше и шире в плечах. − Видит бог, нас обоих утопят в этом колодце… системы «журавель», − он кивнул в сторону единственного источника питьевого водоснабжения на хуторе.
− Тебя могут, а меня вряд ли, − Жульдя-Бандя был весел, беззаботен и хладнокровен. − Топить в колодцах мыслителей уже давно вышло из моды. Прошли времена инквизиции, когда философов поджаривали на кострах, как люля-кебаб…
− Философ хренов! − язвительно бросил Фунтик.
− Стой! − Жульдя-Бандя остановил его, придав пальцу восклицательное положение. − Ты что-нибудь слышишь?!
− Ну орут… и что?
− Нет, ты ничего не слышишь. Ты не способен услышать мелодии запахов! − вынес обвинительный приговор мыслитель.
Из жерла трубы куреня, крытого почерневшей от времени камышиной, ветерок приносил неистребимый запах горелого кизяка, от которого, чего греха таить, никакой мелодии не исходило. В хатёнке проживали «три девицы»: баба Нюра, названная девицей условно, с двумя неискусобрачными, предбальзаковского возраста дочками.
− Это эротический запах горящего кизяка. А вы знаете, что такое кизяк?! −
представитель вымирающего отряда глубокомыслящих индивидов посмотрел на приятеля так многозначительно, будто вопрос касался тригонометрических функций.
− Сушёное говно! − обнаружил знание предмета Фунтик.
Нечаянный ветерок всклубил дорожную пыль напротив хатёнки с камышовой крышей, толкая серый бездушный колобок вдоль дороги.
− Нет, это нетленный символ торжества человеческого разума, − философ двинулся вперёд, на ходу продолжая дискуссию. − Только высшее сознание, которым, как мы видим, наделены бескорыстные труженики полей и огородов, способно из скотских испражнений получить тепловую энергию. Но ваше дерьмо, дражайший, сколько его ни поджигай, гореть не станет. Оно пригодно, разве что, для разведения опарышей. − Жульдя-Бандя сорвал свесившийся на дорогу колосок пшеницы и, расшелушивая мягкие недозрелые зёрна, попробовал на вкус, выбросив остальные.
− Из вашего говна, гадом буду, вряд ли будут производить детское питание! − раздражённо заявил пессимистично настроенный дружок.
− Так что у нас с капустой?
− У меня, − уточнил Фунтик, подчёркивая свою значимость и в не меньшей степени низкую ликвидность пустой болтовни философа-самозванца, − тыща двести цветной и полторы белокочанной…
− Давай сто баксов… и всё будет в ажуре. Мы же не можем ввалиться на свадьбу без подарков?!
− Хватит и полста…
− Да ладно, не жмись!..
Выскочившая из подворотни рыжая, со свалявшейся на животе шерстью собачонка прервала диалог. Она с ожесточённым остервенением набросилась на пришельцев, писклявым, захлёбывающимся лаем заявляя свои права на территорию. Дворняжка, согнав со своей вотчины посторонних, с чувством выполненного долга помчалась прочь, равнодушно виляя хвостом, не желая рвать глотку за остальных.