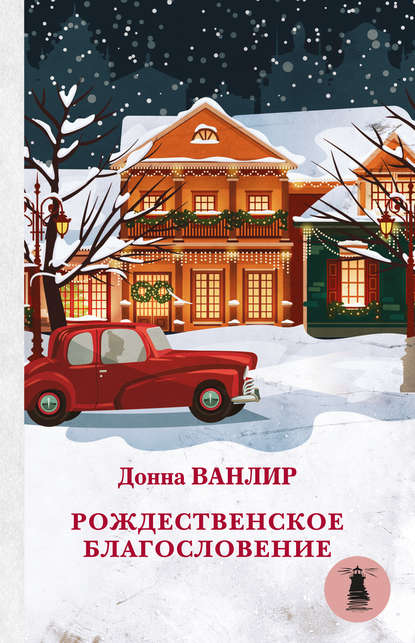Полная версия
Среди овец и козлищ
И когда она поставила перед ним тарелку, он произнес единственную фразу за весь день:
– Персиковые дольки, Дороти.
Это случалось с ней снова и снова. Должно быть, корень зла таился в семье, где-то она об этом читала. Ее мать тоже закончила подобным образом: ее частенько встречали в шесть утра бредущей по улице (почтальон, в ночной рубашке), она совала разные предметы куда ни попадя и потом не могла их найти (домашние тапочки в хлебницу). «Совсем съехала с катушек» – так говорил о ней Гарольд. Она была примерно в возрасте Дороти, когда начала терять разум, хотя Дороти всегда казалось, что «терять разум» – весьма странное выражение. Точно твой разум могли переместить куда-то в другое место, как связку ключей от дома или же джек-рассел-терьера. Скорее всего, в том виновата ты сама, поскольку проявила преступную беспечность.
Через несколько недель ее мать поместили в психиатрическую лечебницу. Все произошло как-то очень быстро.
Это для ее же блага, считал Гарольд.
Он повторял это всякий раз, когда они ее навещали.
Съев персики, Гарольд улегся на кушетку и уснул, хотя как можно спать в такую жарищу, было выше ее понимания. Он все еще находился там, живот вздымался и опускался, когда он переворачивался во сне с боку на бок, храп вторил тиканью кухонных часов, и уже было ясно, чем закончится для них этот день.
Дороти собрала остатки еды, выбросила их в мусорное ведро, крышка которого поднималась при нажатии педали. Единственная проблема потери разума сводилась к тому, что воспоминания, от которых хотелось избавиться, оставались при ней. Воспоминания, от которых действительно хотелось отмахнуться в первую очередь. Ступня стояла на педали, а она все смотрела в мусорное ведро. Неважно, сколько листов бумаги ты исписала, сколько раз перечитала «Радио таймс», неважно, сколько раз повторяла слова, снова и снова пытаясь обмануть людей, – воспоминания, которые отказывались уходить, плотно застряли в голове, а это последнее, чего ей хотелось.
Она полезла в ведро и вытащила застрявшую среди картофельной кожуры жестянку. Тупо уставилась на нее.
– Это персики, Дороти, – сообщила она вслух в пустой кухне. – Персики.
Она почувствовала, что плачет, прежде чем слезы успели навернуться на глаза.
– Проблема в том, Дороти, что ты слишком много думаешь. – Гарольд не отводил глаз от экрана телевизора. – А это вредит здоровью.
Вечер немного укротил солнце, гостиная наполнилась золотистыми отблесками. В них буфет приобрел насыщенный оттенок бренди, остальные отсветы прятались в складках штор.
Дороти смахнула воображаемую пушинку с рукава кардигана.
– Об этом трудно не думать, Гарольд. Особенно с учетом обстоятельств.
– Но тут дело в другом. Она взрослая женщина. Скорее всего, они с Джоном просто поцапались, вот она и ударилась в бега, чтоб преподать мужу хороший урок.
Дороти покосилась на мужа. Свет, падающий из окна, придавал его лицу золотисто-розовый оттенок марципана.
– Надеюсь, ты прав, – пробормотала она.
– Ну, разумеется, прав. – Взгляд Гарольда по-прежнему был прикован к телевизионному экрану, она даже видела, как мелькают отблески в его глазах при смене картинки.
Показывали «Сделку века»[15]. Ей следовало бы хорошенько подумать, прежде чем отрывать Гарольда от созерцания Николаса Парсонса. Она могла бы попытаться продолжить разговор во время перерыва на рекламу, но слов на ум приходило слишком много. Так и рвались наружу.
– Дело в том, что я видела ее. За несколько дней до исчезновения. – Дороти откашлялась, хотя до этого говорила вполне звонко. – Она заходила в дом номер одиннадцать.
Гарольд в первый раз за все это время посмотрел на жену:
– Тогда ты мне ничего не сказала.
– Ты не спрашивал, – отозвалась она.
– Интересно, что ей там понадобилось? – Он резко развернулся, очки упали с подлокотника кресла. – И что они могли сказать друг другу?
– Понятия не имею. Но ведь это не просто совпадение, верно? Она точно говорила с ним, а через несколько дней после этого вдруг исчезла. Должно быть, он сказал ей что-то такое…
Гарольд смотрел в пол, Дороти ждала, когда он разделит ее опасения. Из стоявшего в углу телевизора доносился громкий смех, заполняя всю гостиную.
– Я одного не понимаю, – заметил Гарольд. – Как он вообще может оставаться на нашей улице после всего, что произошло? Он должен бы съехать отсюда.
– Но, Гарольд, мы ведь не можем диктовать людям, где им следует жить.
– Ему здесь не место.
– Он прожил в доме номер одиннадцать всю свою жизнь.
– Но после того, что он сделал…
– Да ничего он такого не делал. – Дороти уставилась на экран, избегая смотреть в глаза Гарольду. – Так говорят.
– Знаю, что там говорят.
Она слышала, как он дышит. Волны жаркого воздуха с шумом проходили через натуженные легкие. Она ждала. Но Гарольд снова развернулся лицом к телевизору, выпрямил спину.
– Ты просто поддаешься панике, Дороти. Все кончено, и забыли об этом. С тех пор уже десять лет прошло.
– Вообще-то девять, – заметила она.
– Девять, десять, какая разница! Все в прошлом. Но когда ты начинаешь говорить об этом, прошлое перестает быть прошлым и становится настоящим.
Она собирала ткань юбки в мелкие складки, потом разжала пальцы.
– Так что советую перестать психовать, женщина.
– Ничего не могу с собой поделать, – пробормотала Дороти.
– Ну, тогда ступай и займись чем-то полезным. Прими ванну.
– Я принимала ванну. Утром.
– Тогда иди и прими еще раз, – скомандовал он. – Ты сбиваешь меня с мысли, мешаешь слушать вопросы.
– А как же экономия воды, Гарольд?
Но тот не ответил. Вместо этого начал ковыряться во рту зубочисткой. Дороти слышала это. Даже голос Николаса Парсонса не мог заглушить.
Она пригладила волосы, расправила юбку. Глубоко вздохнула, чтобы подавить очередную фразу, готовую вырваться из ее рта, потом поднялась и вышла из комнаты. Но перед тем, как закрыть за собой дверь, обернулась.
Гарольд отвернулся от экрана и смотрел в окно. Смотрел сквозь кружевные занавески через садики и мостовую на дверь дома под номером одиннадцать.
Очки так и остались лежать на полу у его ног.
Дороти точно знала, где спрятала жестянку.
Гарольд никогда не заходил в гостевую спальню в задней части дома на втором этаже. И она превратила эту комнату в кладовую. Некое подобие зала ожидания для вещей, которые больше не нужны, но с которыми она была не в силах расстаться. Муж говорил, что при одной только мысли об этом у него начинается головная боль. Шли годы, вещей становилось все больше. Теперь прошлое забивало все углы и почти достигало потолка. Оно тянулось по подоконнику, громоздилось на полу, и Дороти запросто могла поднять и подержать в руках каждый предмет. Иногда одних воспоминаний недостаточно. Иногда ей нужно было прикоснуться к прошлому, чтобы убедиться: сама она является его частью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
«Хиллман-хантер» – популярная в 70-е гг. XX в. модель английского автомобиля. –Здесь и далее примеч. пер.
2
Гарольд Уилсон (1916–1995) – политик-лейборист. Лидер партии с 1963 г., премьер-министр Великобритании.
3
Кеннет Кендел (1924–2012) – британский радиоведущий, около 25 лет проработал на Би-би-си.
4
«Боврил» – фирменное название пасты из говядины для приготовления бутербродов и бульонов.
5
«Нью Сикерс» – австрало-английская поп-группа, образовалась в 1964 г.
6
Джеймс Каллаган – премьер-министр Великобритании (1976–1979), представитель партии лейбористов.
7
Хоппер – резиновый шар с ручками, которые позволяют сидеть на нем или прыгать, но не падать.
8
«Танцующая королева» – песня ансамбля «АББА».
9
Долли Партон (р. 1946) – американская кантри-певица и киноактриса.
10
«Джолин» – песня, автором и исполнителем которой является Долли Партон.
11
Джимми Янг (1948–2005) – американский боксер, выступавший в тяжелом весе.
12
«Братство людей» – британская поп-группа, победившая на конкурсе «Евровидение» в 1976 г.
13
Брюс Форсайт (р. 1928) – британский актер и телеведущий развлекательных программ.
14
«Радио таймс» – британский еженедельник с программами радио и ТВ.
15
«Сделка века» – игровое шоу, шло на британском телевидении с 1971 по 1983 г., ведущий Николас Парсонс.