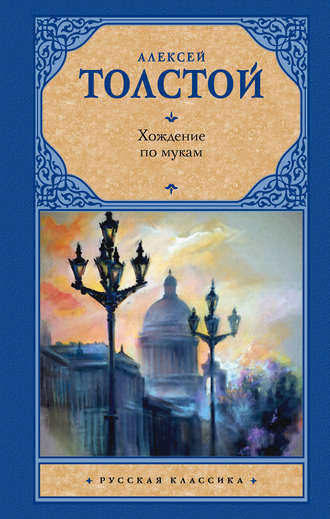
Полная версия
Хождение по мукам
– Вы странная девушка.
– Бессонов, вы очень опасный человек. Я ведь из раскольничьей семьи, я в дьявола верю… Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась… Я вас боюсь.
Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо.
– Любите меня… Умоляю, любите меня, – проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. – Мне тяжело… Мне страшно… Мне страшно одному… Любите, любите меня…
Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза.
Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки… «Да, да, знаю… Но я весь окоченел. Сердце остановилось. Согрейте меня. Мне так мало нужно. Сжальтесь, я погибаю. Не оставляйте меня одного. Милая, милая девушка…»
Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями. Стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, – так было стыдно.
И вдруг ее всю обвеял огонек. Бессонов стал казаться милым и несчастным… Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого уже без стыда поспешно разделась и легла в постель.
Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках – на висках, под веками, у сжатого рта: чужое, но теперь навек родное лицо.
Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала.
Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться, что никогда никто не сможет ее полюбить, и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали: что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее жизнь будет полна мути, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осторожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах, забылась сном.
Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, затем решился и поглядел налево. Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.
«Кто такая?» Он напряг мутную, память, но ничего не вспомнил, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил: «Вот так черт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно».
– Вы, кажется, проснулись, – проговорил он вкрадчивым голосом, – доброе утро. – Она помолчала, не отнимая локтя. – Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. – Он поморщился, все это выходило пошловато. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать – каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Он отодвинулся. Кажется, ее звали Маргарита. Он сказал грустно:
– Маргарита, вы сердитесь на меня?
Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же вспомнил и почувствовал братскую нежность.
– Меня зовут не Маргарита, а Елизавета Киевна, – сказала она. – Я вас ненавижу. Слезьте с постели.
Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати около вонючего рукомойника оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество.
– Есть минуты, которых не забывают, – пробормотал он.
Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел с папироской на диван, она проговорила медленно:
– Приеду домой – отравлюсь.
– Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна.
– Ну, и не понимайте. Убирайтесь из комнаты, я хочу одеваться.
Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил; потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса полового и двух горничных, – они пили чай, и половой говорил:
– Заладила про свою деревню. Тоже Расея. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Расея. Все сволочи. Сволочи и охальники.
– Выражайтесь поаккуратнее, Кузьма Иваныч.
– Если я при этих номерах восемнадцать лет состою, – значит, могу выражаться.
Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была отворена, комната была пуста. На полу валялась его шляпа.
«Ну, что же, тем лучше», – подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.
Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что с утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, – насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки чахотки, и даже полумистические микробы черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов. По улицам продувал ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна. Дворники в синих рубахах подметали мостовые. На Невском порочные девочки с зелеными личиками предлагали прохожим букетики подснежников, пахнущих дешевым одеколоном. В магазинах спешно убирали все зимнее, и, как первые цветы, появились за витринами весенние, веселенькие вещи.
Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует русская весна». И несколько стишков были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос.
И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье мальчишек, прошли футуристы от группы «Центральная станция». Их было трое: Жиров, художник Валет и никому тогда еще не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень с лошадиным лицом.
Футуристы были одеты в короткие, без пояса, кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке нарисованы – рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав Литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности.
Весь город был на улицах. По Морской, по набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то необыкновенное: либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут бомбой совет министров, либо вообще где-нибудь «начнется».
Но опустились синие сумерки на город, зажглись огни вдоль улиц и каналов, отразившись зыбкими иглами в черной воде, и с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный и облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день кончился.
Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гете, и чтение возбудило его и взволновало.
Он ходил вдоль книжных шкафов и думал вслух; подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки. Старушка нянька, жившая при его холостой квартире, принесла фарфоровый, дымящийся моккой кофейник.
Бессонов переживал хорошие минуты. Он писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение Черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет.
Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такою эту страну, которую знал только по книгам и картинкам. Лоб его покрывался глубокими морщинками, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки бумаги.
В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день.
Понемногу сердце стало биться ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Брр… Никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания.
Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прошлепала туфлями. Заносчивый женский голос проговорил:
– Я хочу его видеть.
Затем легкие, стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся. Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади из прихожей, стройная, тоненькая девушка, в большой шляпе с дыбом стоящими ромашками.
Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты; когда же Бессонов молча поднялся с дивана, – попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким голосом:
– Я пришла к вам по очень важному делу.
Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом.
– Чем могу быть полезен? – спросил Алексей Алексеевич; показав вошедшей на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное, с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул, пальцы его затрепетали.
– Дарья Дмитриевна, – проговорил он тихо. – Я вас не узнал в первую минуту.
Даша села на стул решительно, так же, как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и насупилась.
– Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок.
Не слушая его, Даша сказала:
– Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся, – не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не затем, чтобы разговаривать о стихах… Я пришла потому, что вы меня измучили.
Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснели шея и руки между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился.
– Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но вот, видите, приходится испытывать очень неприятные минуты…
Она быстро подняла голову и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы.
– Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать. Сегодня – решилась. Вот, видите, объяснилась в любви…
Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели: «Умрем». «Нет, мы улетим». «В хрустальное небо». «В вечную, вечную радость».
– Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства, я уйду сию минуту, – торопливо и горячо проговорила Даша. – Вы меня даже не можете уважать – это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас люблю мучительно и очень сильно… Я разрушилась вся от этого чувства… У меня даже гордости не осталось…
И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти». Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ею овладела такая слабость, что – не поднять руки, и она почувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай», – думала она сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, – немного придушенно.
– Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда…
– Не требуется, чтобы вы их помнили, – сказала Даша сквозь зубы.
Бессонов помолчал, поднялся и, отойдя, прислонился спиной к книжному шкафу.
– Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я недостоин был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал, изжил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением за город, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испить вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя.
Даша чувствовала, как он впускает в нее иголочки. В его словах была затягивающая мука…
– Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять…
– Нет, нет, – быстро прошептала Даша.
– Нет, да. И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы и пришли ко мне. Расплескать чашу девичьего вина… Вы принесли ее мне…
Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.
– Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть откровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту…
– Что? – крикнула Даша. – Что вы сказали?
Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так истолковал это волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри вдыхали благоухание духов и тот почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи.
– Это сумасшествие… Я знаю… Я не могу… – прошептал он, отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь. Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках Черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление.
8
– Даша, это ты? Можно. Войди.
Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даше она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье, в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике, стояла чашка с горячей водой; повсюду – ножницы для ногтей, пилочки, карандашики, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна «чистила перышки», как это называлось дома.
– Понимаешь, – говорила она, пристегивая чулок, – теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот – новый, от мадам Дюклэ. Живот гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?
– Нет, не нравится, – ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови:
– Правда, не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.
– Что удобно, Катя?
– Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как все-таки странно, – почему не нравится?
И она опять повернулась и правым и левым боком у зеркала. Даша сказала:
– Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты.
– Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает.
– Николай Иванович тоже тут ни при чем.
– Даша, ты что?
Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы, на щеках у нее горячие пятна.
– Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.
– Но должна же я привести себя в порядок.
– Для кого?
– Что ты, в самом деле!.. Для самой себя.
– Врешь.
Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила:
– Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.
Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, что у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то.
– Даша, ты что-нибудь узнала? – спросила она тихо.
– Я сейчас была у Бессонова. (Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побледнела, подняла плечи.) Можешь не беспокоиться, – со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне…
Даша переступала с ноги на ногу.
– Я давно догадывалась, что ты… именно с ним… Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить… Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю… Пойди к мужу и все расскажи.
Даша не могла больше говорить, – сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.
– Сейчас пойти? – спросила Катя.
– Да. Сию минуту… Ты сама должна понять…
Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери.
Там, замедлив, она сказала еще:
– Я не могу, Даша. – Но Даша молчала. – Хорошо, я скажу.
Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки».
Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул:
– Катюша, сядь. Послушай, что он пишет, вот это место… «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека – то есть Бакунина, – а в том пафосе претворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, – и бессонные беседы с Прудоном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимоездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою выступят на борьбу новые классы. Материализация идей – вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность – груда горючего, идеи – искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота…» Нет, подумай, Катюша… Ведь это черным по белому – да здравствует революция. Молодец, Акундин! Действительно, живем, – ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно – безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается. – Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и – по уши в болоте. Народ – заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее – рассыплется в прах. Так жить нельзя… Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне…
Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом, глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезать журнал, – она подошла и положила ему руку на волосы:
– Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать…
Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно вгляделся:
– Да, я слушаю, Катя.
– Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не был очень спокоен на мой счет… А потом отрицала это…
– Да, помню. – Он положил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взором Кати, забегали от испуга.
– Так вот… Я тебе тогда солгала… Я была тебе неверна…
Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухо:
– Ты хорошо сделала, что сказала… Спасибо, Катя…
Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла:
– Больше тебе не нужно ничего говорить?
– Нет. Уйди, Катя.
Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши:
– Прости, прости!.. Ты дивная, ты изумительная!.. Я все слышала… Простишь ты меня, простишь ты меня, Катя?.. Катя?..
Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к стопу, поправила морщину на скатерти и сказала:
– Я исполнила твое приказание, Даша.
– Катя, простишь ты меня когда-нибудь?
– Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.
– Ничего я не была права! Я от злости… Я от злости… А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты – права, я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя.
У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры, и говорила громким шепотом:
– Если ты не простишь, – я больше не хочу жить.
Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней:
– Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно… Так я тебе скажу… Я потому лгала и молчала, что только этим можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем… А вот теперь – конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему неверна. А Николай Иванович любит меня или не любит – не знаю, но он мне не близок. Поняла? А ты, как зяблик, все голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что – слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась сберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам… Это было еще до того, как он… Ну, все равно… Теперь всему этому конец…
Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, из-за портьеры, боком, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной.
– Бессонов? – спросил он, с улыбкой покачивая головой.
И продвинулся в столовую.
Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот.
– Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен. Напрасно.
Он продолжал улыбаться:
– Даша, оставь нас одних, пожалуйста.
– Нет, я не уйду. – И Даша стала рядом с сестрой.
– Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу.
– Нет, не уйду.
– В таком случае мне придется удалиться из дома.
– Удаляйся, – глядя на него с яростью, ответила Даша.
Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее выражение – веселенького сумасшествия.
– Тем лучше, оставайся. Вот в чем дело, Катя… Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо… Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить… Да, да.
При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы:
– У тебя истерика… Тебе нужно принять валерьянку, Николай Иванович…
– Нет, Катя, на этот раз – не истерика…
– Тогда делай то, за чем пришел, – крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. – Ну, делай. В лицо тебе говорю – я тебя не люблю.
Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины маленький, «дамский» револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил:
– Мне больно… Мне больно…
Тогда она кинулась к нему, схватила его за плечи, повернула к себе его лицо:
– Врешь… Ведь врешь… Ведь ты и сейчас врешь…
Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола:
– Вот, Дашенька, – сцена из третьего акта, с выстрелом. Я уеду от него.
– Катюша… Господь с тобой.
– Уйду, не хочу так жить. Через пять лет стану старая, будет уже поздно. Не могу больше жить так… Гадость, гадость!
Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову:
– Ты думаешь – мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты вот подумай, – пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, насквозь фальшивый… Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит. Все равно как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать… Нет, я уеду… Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска!
К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет.
Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно.












