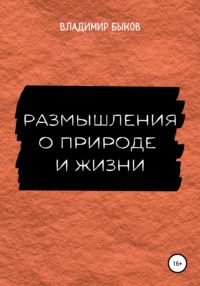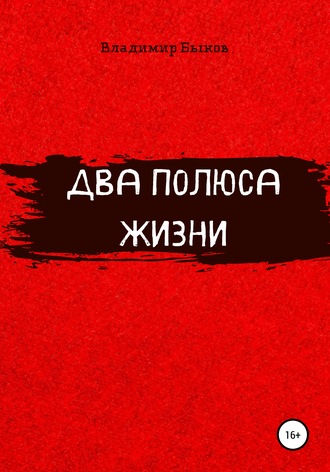 полная версия
полная версияДва полюса
…Кажется, в 1892 или 1893 г. Морское министерство организовало конкурс на составление проекта броненосца, причем были объявлены две довольно крупные премии. По рассмотрении Техническим комитетом многих представленных проектов, на первую премию был признан проект под девизом «Непобедимый», а на вторую – под девизом «Кремль».
Вскрывают конверт с девизом и читают: «Составитель проекта под девизом «Непобедимый» – инженер Франко-русского завода Петр Акиндинович Титов». Затем читают: «Составитель проекта под девизом «Кремль» – инженер Франко-русского завода Петр Акиндинович Титов». Произошла немая сцена, более картинная, нежели заключительная в «Ревизоре», ибо многие члены комитета относились к Титову свысока и говорили про него: «да он для вразумительности слово инженер пишет с двумя ятями». И вдруг такой пассаж: два проекта, оригинальных, отлично разработанных, превосходно вычерченных и снабженных всеми требуемыми расчетами, получают обе высшие премии.
От получения премий он отказался, передав их Морскому инженерному училищу».
Ну, а теперь, спрашивается, можно ли по-хорошему не завидовать Крылову, да не только ему, но и многим, многим из его, таких же, как он сам, окружения? Именно благодаря им мы начали, несмотря на весь известный негатив соцсистемы, достаточно успешно строить наше новое государство. Первое поколение строителей, воспитанное в недрах оригинальной деловой среды, о которой образно поведал нам Крылов, – иначе работать не умело. Неплохо работало и второе, учившееся у Крыловых. Сейчас таких людей мало, и потому мы прочно стоим, выдавая, часто, желаемое – за достигнутое.
Капица
Петр Леонидович Капица – ученый с мировым именем, изумительный физик-экспериментатор, талантливый инженер. Он разработал новую оригинальную установку для ожижения гелия и открыл сверхтекучесть последнего; добился получения на порядок более высоких магнитных полей, придумав для этого специальную конструкцию мотор-генератора; изобрел турбодетандер для высокоэкономичного способа получения кислорода, но, главное, он так же, как и его тесть А.Н. Крылов, в условиях советских режимных и прочих ограничений, сохранил в себе до самых последних дней жизни честь, достоинство и высочайшую гражданственность. Последняя, в частности, подтверждается его письмами к Сталину по вопросам далеко не безобидным: по политической реабилитации, например, академиков Лузина и Ландау, открытой критике всесильного тогда Берии. И, похоже, Сталин отдавал должное его прямоте и принципиальности. Но все же не мог не продемонстрировать свою власть, наказав за Берию и отказ от участия в создании атомной бомбы освобождением от руководства созданным им институтом.
Капица умел и любил выступать по самым разным поводам: с популярными лекциями о им сделанном; с докладами на научных, проблемных, юбилейных сессиях и собраниях Академии наук СССР, а также на разных симпозиумах, конференциях. И каждое из выступлений несло в себе отпечаток его самобытности, нестандартности или острой критики всего, что мешало нормальной работе. Давайте посмотрим, с какой оригинальностью, как интересно и просто он рассказывал (в передаче с некоторыми моими сокращениями) о самых разных вещах.
О создании турбодетандера.
«Для того чтобы получать холод, сначала строили поршневые детандеры и, чтобы поднять их КПД, прибегали к высоким давлениям точно так же, как в энергетике стремились пользоваться машинами высокого давления пара. Потом в энергетике поршневые машины начали заменять турбинами. Следовательно, для получения жидкого воздуха нужно делать то же самое. И, следуя этой аналогии, инженеры стали применять для холодильной техники общепринятые типы паровых турбин. Оказалось, что холод они давали, но с плохим КПД. Инженеры, загипнотизированные аналогией, просмотрели очень важный фактор. Они упустили то, что воздух при низких температурах становится настолько плотным, что по своим свойствам гораздо больше напоминает воду, чем пар, и что холодильные турбины, отсюда, надо строить не по образцу паровых, а по образцу водяных.
Когда я обратил внимание конструкторов кислородных установок, что они применяют не те турбины, мое замечание не было принято, поскольку, ответили они, за границей идут по пути паровых турбин и что мое предложение – есть отвлеченная теория ученого. Пришлось сделать предлагаемую турбину у нас в институте и проверить ее. Теперь она получила общее признание и у нас, и за рубежом».
В порядке отступления отметим здесь, что упомянутая фраза «за границей такого нет» являлась при советской власти, особенно в ее более поздние времена, чуть не главным аргументом против любой более или менее оригинальной новой технической идеи. Этот аргумент был полной антитезой официально превозносимой марксистской идеологии, ее главному рычагу – диалектическому мышлению.
Об энергетике больших мощностей.
Одно время с большой настойчивостью выдвигались и широко пропагандировались различные глобальные проекты использования новых источников получения электрической энергии, вроде солнечных, геотермальных и прочих. Капица разделался с отдельными подобного вида прожектами, базируясь на известных существующих в природе ограничениях по плотности потока энергии.
«Энергетическая проблема для техники и науки стала сегодня проблемой № 1. К сожалению, работа в этой области часто ведется с узкотехническим подходом, без достаточного учета физических закономерностей». Далее он продолжал, начав с одного образного примера.
«В 40-х годах мой учитель А.Ф. Иоффе занимался разработкой электростатического генератора. Он был прост и неплохо работал. У Иоффе возникла идея заменить электромагнитные генераторы электростатическими и перевести на них всю большую энергетику страны. Пришлось опровергать этот проект, исходя из оценки плотности потока электроэнергии при ее трансформации. После проведенных расчетов получилось, что для обычного генератора мощностью 100 Мвт ротор будет иметь рабочую поверхность 10 м2, а для электростатического той же мощности в 100 Мвт – потребуется ротор поверхностью в 4.104 раз большей, т.е. равной примерно половине квадратного километра, практически неосуществимых размеров.
Точно так же обстоит дело с использованием солнечной энергии. Расчеты показывают, что снимаемая с одного квадратного метра освещенной солнцем поверхности мощность не будет в среднем превышать 100 Вт, и, чтобы генерировать 100 мегаватт, требуется площадь в один квадратный километр. Ни один из существующих методов преобразования солнечной энергии не может этого осуществить так, чтобы капитальные затраты могли оправдаться полученной энергией. Эти затраты на несколько порядков выше и пока не видно даже как их можно понизить. Так же обстоит дело с использованием геотермальных источников, морских приливов, ветра. Опять тот же недостаток плотности потока энергии. Использование указанных источников может быть полезным лишь для бытовых нужд в небольших масштабах».
Еще более привлекательны его выступления по общим проблемным вопросам. Вот с каким сарказмом он говорил о планировании научных работ.
«Ряд крупных ученых являются противниками плана любого вида. Сам Ньютон, например, не мог бы по заданному плану открыть закон тяготения, поскольку это произошло стихийно, на него нашло наитие, когда он увидал знаменитое падающее яблоко. Очевидно, нельзя запланировать момент, когда ученый увидит подобное и как оно на него подействует. Самое ценное в науке и что составляет ее основу, не может планироваться, поскольку оно достигается творческим процессом, успех которого в таланте ученого.
О.Ю. Шмидт предлагает нам компромиссный вариант: не планировать научные открытия и предоставить ученым свободу, но планировать другую массу нетворческой работы. Этот взгляд мало обоснованный. Он соответствовал бы тому, как если бы при оценке картины в музее, хотя мы и знаем, что лишены возможности оценить, например, картину Рубенса, мы все же приняли бы, что можем оценить раму, краски, холст и пр. И таким образом определить некоторую часть стоимости художественных фондов музея. Такие оценки ничего не выражают и могут удовлетворить только бюрократическую администрацию». Далее он, естественно, предлагал весьма разумный подход к планированию, который бы «не стеснял свободу творчества, а поддерживал ее».
Вообще за словом в карман Капица не лез и, как и его тесть, отличался находчивостью, нестандартностью мышления и любил рассказывать разные забавные истории.
Одна из них – про докторскую мантию, которую он оставил на крючке в прихожей Тринити-колледжа, а затем, спустя более 30 лет, будучи снова в том же колледже, во время обеда, попросил служителя посмотреть ее там и принести ему. Что якобы и было исполнено. Когда один из сомневающихся спросил: «Не придумал ли он это все?», Капица ответил: «Единственное, что я выдумал, – не сказал, когда получил мантию. А получил я ее не в тот самый вечер, а на следующее утро. Это была единственная моя вольность». Собеседник признал ее позволительность. История про мантию на этом не закончилась и стала в дальнейшем «неотъемлемой принадлежностью кембриджского фольклора».
Другая, также с многочисленными вариациями и дополнениями, рассказывалась в виде анекдота о том, как одна фирма попросила Капицу ликвидировать неполадки в новом электродвигателе. Он внимательно осмотрел двигатель, подумал, ударил по нему молотком, и – двигатель заработал. Представитель фирмы, увидев, что дело решилось в несколько минут, попросил Капицу отчитаться в полученной сумме (а получено им было 1000 фунтов). Капица написал, что удар молотка он оценивает в 1 фунт, а безошибочное знание места удара в 999 фунтов. Прелесть истории в ее окончании. После того, как этот профессорский анекдот многократно был пересказан и даже переписан, интерпретацию ему дал один уважаемый ученый. По его словам, анекдот этот, услышанный им от самого Капицы лично, относится на самом деле к известному строителю паровых турбин Парсонсу, а оплата за работу выражалась суммой всего в 500 фунтов.
С именем Капицы связана масса и других историй. В этом плане он обладал качествами, делающими его чрезвычайно интересным в общении, чему способствовали, кроме того, его общая эрудиция, обширнейшие познания в литературе, искусстве, политике, а также огромный круг знакомых из числа известнейших мировых имен.
К сожалению, Капица жил несколько в другую эпоху и ему, в отличие от Крылова, не удалось избежать славословия в адрес некоторых общепринятых тогда догм. Но, тем не менее, он оставался и тут всегда самим собой, и делал это так же красиво, как и все остальное.
В одном из своих докладов он заявил, что «первый, кто нашел научный подход к экономике, был Карл Маркс» и что его роль можно сравнить с ролью Ньютона, который нашел основной закон движения материальной среды. Затем констатировал неустойчивость (по Марксу) капиталистической экономики, обязательность обеднения рабочих и как указанное обеднение в сочетании с капиталистическим способом использования прибыли неизбежно «разрешится революцией». Однако несколько ранее, перед тем как разразиться этой тирадой, он, обратив наше внимание на то, как «сейчас для придания значительности часто называют наукой то, что вовсе ею не является», дал вполне четкую характеристику истинно научному обобщению.
По мнению Капицы, таковым любое обобщение можно считать только тогда, когда «на основе закона причинности – определенные причины всегда вызывают определенное следствие и каждая проблема имеет только одно решение». Оставим последнее вне критики. Примем его за абсолют, хотя бы из того, что так надо было автору, и посмотрим по ходу дальнейшего выступления Капицы, как упомянутый научный подход отвечает однозначности решения поставленной Марксом задачи.
Сперва Капица невинно отметил, что после революции «стихийная экономика будет заменена плановым хозяйством, подобным тому, которое будет иметь место при социализме. Социализму, когда делался им доклад, минуло 60 лет, а тут еще только «будет». Первая неувязка. Хотя можно признать и просто за оговорку. Далее его разъяснения на оговорку не сбросишь.
Революция в передовых капстранах не произошла потому, что «Маркс исходил из той скорости роста капитала, которая была в его время, в прошлом веке», а сейчас там общий рост капитала «стал настолько велик, что не происходит обеднения пролетариата». Маркс предсказывал
капиталистические кризисы и в качестве выхода из них «плановое хозяйство, но этого не произошло». Вместо планового хозяйства появился «исключительно талантливый и широко образованный ученый» английский экономист Дж.М. Кейнс, который «знал и ценил работы Маркса, но, будучи прагматиком» (вопреки научному предвидению Маркса), взял да решил поднять налоговое обложение, в дополнение предложил еще «оригинально и смело сводить государственный бюджет с дефицитом, что, конечно, приводит к инфляции. Однако при инфляции мертвый капитал обесценивается, это убыточно, потому она сопровождается стимуляцией капиталовложений. Улучшается обратная связь, развиваются новые направления промышленности… И, как полагал Кейнс, небольшая перманентная инфляция стала демпфировать кризисы».
Затем Капица, в качестве примеров более глубокой организации бескризисной экономики, сослался на «необходимость вести экономику отдельных стран согласованно в глобальном масштабе». Заговорил об интеграции экономики, создании системы Общего рынка, Римском клубе, работы которого, «хотя и подвергаются постоянно критике, свидетельствуют о том, что ведутся они, несомненно, в правильном направлении и дают ценный материал для научного понимания происходящего кризиса». Добавил еще что-то в том же духе и закончил: «Такие исторические процессы, как установление власти, классовые противоречия, экспансия и пр., всегда связаны с эмоциональной деятельностью не только отдельного человека, но и целых коллективов. По мнению Ж. Пиаже (еще одного – для полноты картины), эти процессы не поддаются полностью объективному научному изучению».
И вообще, в эволюционном развитии передовая общественная структура должна, – констатировал Капица, – определяться «качеством духовной культуры страны и степенью гармоничности развития личности… а поскольку процесс эволюции происходит во времени путем соревнования, в конечном итоге будут выживать те государства, в которых духовная культура в наибольшей степени соответствует требованиям эволюционного развития человечества». Вот так!
Правда, у Капицы фактически полное развенчивание Марксовой науки, которая же, конечно, никакая не наука (в том объеме, о котором тут шла речь), а в чистейшем виде априорное авторское представление, выглядело не так наглядно, как у меня, в силу более пространного изложения материала, разжиженного им на то специально разной водичкой. Капица в те времена одним из первых придумал своеобразный метод доведения своих взглядов эзоповским языком – через анализ и критику его интересующих проблем, имевших место в западном мире. Но в отличие от других, он делал это, как видно из приведенных здесь примеров, нахальным, почти издевательским образом. Он доводил им анализируемое до восприятия с позиций здравого смысла и ценностей, признанных миром честных людей, а затем брал и переносил все им предлагаемое на нашу грешную страну.
Капица был не только ученый, но и превосходный инженер. Этот инженерный, с широким кругозором и глубоким всесторонним анализом, подход к любым явлениям жизни, у Капицы, как и у Крылова, чувствовался повсеместно и постоянно. Однако своему тестю все же в чем-то он уступал… Другие времена, другие люди.
Семенов
Николай Николаевич Семенов, как и Капица, известный советский ученый и тоже лауреат Нобелевской премии. Они одновременно учились, молодыми вместе работали у Иоффе. Оба стояли у истоков создания советской науки, оба были директорами институтов, но… стояли и были несколько по-разному. Капица – работал и бунтовал, Семенов – работал и служил. Семенов не был инженером, что даже как-то отметил Капица, отметил вполне лояльно, как бы защищая его от непомерных приставаний к нему разных руководителей с чисто инженерными задачами, которых он решать, надо иметь в виду, не умел.
Однако факт есть факт, Семенов в меньшей степени сталкивался с реалиями жизни, нес на своих плечах меньший груз ответственности, менее был способен к многофакторному анализу действительности и только по одному этому мог легко служить. Надо полагать, что-то было от воспитания, характера, возможно, от возраста: он был на два года моложе, а для становления молодого человека в те предреволюционные годы это имело значение. За спиной у Семенова, кроме того, не было долгих лет работы в Англии
у Резерфорда, что были у Капицы и которые, естественно, не могли не сказаться и не повлиять на последнего. Хотя бы в части его взглядов на жизнь, его ненависти к чиновничеству, бюрократии и вообще ко всему, что претит здравому смыслу и нормальному здоровому человеку, прежде всего человеку дела.
Интересны для сравнения этих двух людей два сборника, оба с их статьями и выступлениями, практически одинакового объема, подготовленные одной и той же редакционной коллегией под руководством академика П.Н. Федосеева и изданные в одном и том же 1981 году.
В первом перед нами предстает человек-бунтарь, который не только согласен с Фрейдом, считавшим, что «гений и послушание – две вещи несовместимые», но и распространяет данную категорию непослушания вообще на любой по-настоящему творческий процесс, как процесс, прямо вытекающий из «недовольства существующим». Его речь нестандартна, он яркий приверженец общечеловеческих ценностей, вызывающий симпатию каждым своим поступком, действием и даже избранным подходом к освещению темы очередной статьи или выступления.
Во втором все вполне сносно и, вне сравнения с первым, сборник вполне читаем и, в ряде мест, даже с интересом. Но стоит положить их рядом, да еще открыть на страницах примерно одинаковой тематики, а таких чуть не все, моментально бросается в глаза отсутствие во втором как раз того, что особо прельщает тебя в первом. Главное впечатление – Семенов придворный ученый, я бы сказал, превосходный образец советского придворного. Отсюда у него нет борьбы, масса серости, догматического восхваления официально признанного, и потому непомерно много пустых, хвалебного вида, фраз и слов.
Исходные позиции Семенова и как гражданина, и как ученого не могли не вызывать адекватной им реакции со стороны Капицы. Доказательство тому – не только совпадение тематики их выступлений, но и более поздние даты выступлений Капицы, которые можно вполне принять как бы за ответы на соответствующие высказывания Семенова.
Выше приводились соображения Капицы о большой энергетике, которые были выдвинуты им в 1975 году, с критикой, если читатель помнит, ряда источников электрического тока, в том числе солнечных лучей. Не являются ли они ответом на аналогичное выступление Семенова в 1973 году, когда он с большим оптимизмом писал, наоборот, о целесообразности получения, даже не 100000 Квт, как у Капицы, а всего 50000 Квт, электротока с того же одного квадратного километра, видимо, совершенно не отдавая себе отчета в технических трудностях создания необходимого для сего сооружения и его стоимости?
Семенов очень много уделял внимания воспитанию молодежи. В сборнике приведен десяток его статей и выступлений по разным случаям жизни. Все они несут в себе отпечаток некоей высокопарности, казенности, лозунговости, дидактизма и марксистско-ленинского догматизма, то есть как раз тех вещей, которые недопустимы в воспитании и приводят к прямо противоположным желаемому результатам.
Советский ученый должен «все силы своего ума и чувств отдавать науке и служению народу; никогда не застревать на том направлении, которое начинает изживать себя, смело переходить на разработку новых, более актуальных для науки и народа направлений; радоваться успехам других и своих коллег; ценить талант в своих учениках; работать не ради славы, не ради карьеры, а ради того, чтобы создать научные ценности».
Или: «Вам предстоит использовать все преимущества социалистического строя, ликвидировать все побочные причины, мешающие быстрейшему прогрессу в области экономики, чтобы быстрыми темпами догнать и перегнать самые передовые в техническом отношении капстраны. Вам суждено осуществить переход от социализма к коммунизму… Вам надо быстро и решительно внедрять науку в производство… Надо твердо знать, что первым, кто понял все значение новых открытий физики этого времени (первого десятилетия 20-го века), был В.И. Ленин.
Главным в деле приема в исследовательские вузы является отбор наиболее одаренных в научном отношении юношей и девушек, и чтобы он был широким и охватывал всю молодежь страны – от отдаленных деревень до больших городов…»
Что это? Выступления академика или районного масштаба агитпросветителя? И не есть ли те результаты развала, к которым мы пришли в 60-е годы и при которых стали измерять достижения науки количеством кандидатов, докторов и числом написанных статей, – прямое следствие подобного вышеприведенному обучения молодых людей?
Капица, опять как бы в порядке противопоставления Семенову, выступил с подобной же темой в 1970 году на одном международном конгрессе. Полнейший контраст. Ничего похожего. У него это личностные, не подверженные внешнему влиянию размышления крупного ученого о путях совершенствования воспитания и обучения молодого поколения на основе собственного опыта и понимания тогда происходившего в мире. Его стандарт совсем другого плана. Он не взывает к тому, что должны и что обязаны молодые.
«Я, – говорил он, – всегда исходил из того, что при воспитании будущего ученого раннее развитие его творческих способностей имеет исключительно большое значение, и поэтому следует их развивать со школьной скамьи, и чем раньше, тем лучше… Надо дать людям, и прежде всего молодежи, смысл существования, привить интерес к решению социальных проблем, воспитать в них духовные качества, необходимые для восприятия науки и искусства. Поскольку воспитание и развитие духовных качеств человека в значительной мере определяется образованием, то это и есть та новая задача, которая выдвинута научно-технической революцией перед школой и вузами. До сих пор подход к образованию человека был скорее утилитарным. Его обучали для эффективного выполнения профессиональных функций – инженера, врача, юриста и пр. Теперь настало время, когда высшее образование становится необходимым всякому человеку…».
Для чего? А для того, – продолжал Капица, – чтобы человек научился с пользой для себя и для общества проводить еще и свой досуг. Далее он связал такое требование времени с удовлетворенностью человека от творческого труда, как прямого следствия образованности. Признал, что последней определяется и более высокий уровень «самостоятельности мышления и творческого восприятия окружающего мира». Отсюда он делал вывод, в отличие от Семенова с его «отбором наиболее одаренных», об обязанности «государства предоставить всему населению возможность получить высшее образование независимо от того, нужно это для профессии человека или нет».
Таким образом, Капица видел решение задачи движения и совершенствования общества не в тавтологическом повторении разных догм, а в максимальной его образованности с целью продуктивной самостоятельности его членов, чему, полагаю, учили его и Семенова Иоффе и другие, воспитанные на этой самой «самостоятельности мышления». Благодаря им только и шло столь быстрое и мощное становление советской науки в первые три десятка ее лет.
Дальше стал сказываться догматизм, в том числе семеновский, и наша наука начала сдавать свои позиции. Как прямой результат невыполнения предложений Капицы катастрофически пошел снижаться культурный потенциал и всего нашего общества в целом.
Внешне оба героя равны, оба много сделали в собственно науке, оба имели бесчисленное множество наград, оба были известны миру, но как по-разному они остаются в нашей памяти. Половина, если не больше, приведенного в сборнике Семенова достойна мусорной корзины; у Капицы – ценным остается всё.
Фрейд
Блестящий ум, талантливый писатель. У него масса покоряюще нестандартных своих собственных мыслей, оценок. Масса импонирующего, восхищающего естественной точностью, простотой и краткостью.
«Мировоззрение – это интеллектуальная конструкция, которая единообразно решает все проблемы нашего бытия, исходя из некоего высшего предположения, в котором в соответствии с этим ни один вопрос не остается открытым, а все, что вызывает наш интерес, занимает свое определенное место.
Научное мировоззрение утверждает, что нет никаких других источников познания мира, кроме интеллектуальной обработки тщательно проверенных наблюдений, т.е. того, что называется исследованием, и не существует никаких знаний, являющихся результатом откровения, интуиции или предвидения.