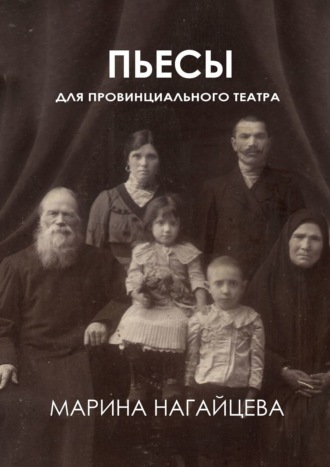
Полная версия
Пьесы для провинциального театра
Странно, что в самые богатые купеческие дома пока не заглядывают, выжидают что ли?
– Дуся, послушай отца, переезжайте с Паней к нам, а Вася пусть пока побудет на Белинского. Дом у Лены маленький, ветхий, комиссия туда не сунется, а завтра ночью конюха нашего, Лаврентия, за Васей пошлём, он к поезду его доставит. Пусть в большой город едет, в Москву. Устроится там рабочим на завод. Паспортов всё равно ни у кого нету, любую фамилию и имя Вася назвать может. А там, глядишь, всё успокоится, и вы с Паничкой к нему приедете. Отпусти его, доченька! Ради жизни, ради счастья вашего будущего, – умоляла Пелагея Ивановна дочку.
– Я Васю не брошу, мама. Это моё решение. Если сюда перебираться, то только с ним.
– Пусть будет так, как ты хочешь, – сказал отец. – Надеюсь, не тронут нас пока. Должна же новая власть купцов поддерживать, а? Мы же и на мосты, и на дороги жертвуем, да и без зерна нашего никак не прожить ей. Как ты думаешь, Дуся, хочет власть с нами дружить?
Но Евдокия на вопрос не ответила, в своих мыслях витала.
– Неужели народ истребят подчистую, папа?
– Не знаю, доченька. Может, хотят новый город вместо Петровска построить и населить его другими людьми, марксистами, а прежние уж не нужны более. Слышала, наших Филиппа и Гору тоже в список внесли вместе с семьями? Детей и женщин в классовых врагов превратили – вот ведь несправедливость какая! Если бы одних мужиков выселяли – это ещё полбеды, за свою вину они бы и несли ответ, коли есть она, а срывать с насиженных мест ребятню малую, мамок на сносях с грудными крохами на руках, выгонять их из домов – это уже подлость. Над беззащитными глумятся только трусливые.
– Супостаты, ироды! Ни детей, ни матерей им не жалко! Совсем обезумели дьяволы! Видно, нет у них ничего святого! – ругала Пелагея Ивановна членов районной комиссии по раскулачиванию.
Мрачные предчувствия одолевали Павла Алексеевича, но он изо всех сил старался не выдать своего беспокойства, не напугать жену и дочь, они и так держались из последних сил.
Слабый луч надежды на благоразумие властей блеснул в его уме: «Быть может, там, наверху, просто не знают о том, что делают районные комиссии на местах? А когда узнают, тотчас исправят ошибку, вернут людей?».
Надеялся он и на то, что до серьёзного, всё-таки, дело не дойдёт, просто припугнуть народ решили. Не станут же опустошать города и сёла: такая махина граждан, тысячи человек, уже попали в списки на выселение с родных мест?
Что же является самым ценным для новой власти, если жизнь человеческая для неё не имеет никакой цены? Одежда, обувь, мебель? Вот фарфоровые чашки, посуда красивая, шторы. Забирайте! Надо?
А хотите картины? Не жалко ничего, задаром отдаю, берите на здоровье!
Долгие годы собирал он оригинальные полотна и репродукции, ценил живопись, любил свою домашнюю галерею. Однако был готов без сожаления расстаться со всем имуществом.
Дом числился среди самых крупных, красивых и богатых строений Петровска. Понятно, что заполучить его новой власти хотелось: уж больно вместительный, да и позицию выгодную занимает – на центральной улице, с неё начинается Московский тракт.
Павел Алексеевич просчитал даже такой расклад: договориться с властями, чтобы от купцов Просянкиных в ссылку забрали только его одного, а за это он отдаст и дом, и мануфактуру свою, пойдёт на все испытания, лишь бы жена, сыновья, дочери и внуки остались живыми и здоровыми, чтобы не трогали их, оставили в Петровске.
Надо собрать их всех, поговорить, обсудить создавшееся положение, может быть, и попрощаться навеки.
С этой мыслью Павел Алексеевич и обратился к женщинам:
– Пеките пироги, собирайте стол, будем ужинать всей семьёй.
Жена и дочь засуетились, принялись за дело, а Павел Алексеевич всё продолжал просчитывать в уме возможные выходы из сложившейся ситуации. Что будет с ними, родными и любимыми?
Он поднялся на второй этаж по парадной лестнице, неспешно совершая обход своих владений и размышляя о насущном:
«Дом крепкий, ни одну сотню лет простоит, а сколько мы продержимся?».
Неожиданный стук заставил Павла Алексеевича подойти к окну.
Порывистый ветер раскачивал обледенелые ветки, и они, извиваясь под тяжестью ноши, льнули к стеклу.
«Вот и мы, словно ветки эти: гнёт нас судьба, как хочет», – подумал он, вглядываясь в пасмурное оконное нутро.
Вся жизнь семьи вдруг промелькнула перед его глазами.
Воспоминания
Павел отродясь робким не был: деловой и решительный крестьянский сын сызмальства во всём отцу помогал.
Зерном и мукой торговали Просянкины: сначала возили мешки за пятнадцать километров из родной Ионычевки в Петровск, на рынке стояли, а потом и оптом стали свой товар сдавать. Дело пошло ещё лучше, когда Павел повзрослел. Спрос на зерно был в ту пору большим, вот и кошельки тугими стали.
Женился сразу Павел Просянкин и в районный город переехал, дом большой купил в самом центре и вскоре стал известным Петровским купцом.
Семья разрасталась, Пелагея ему шестерых детей подарила: Евдокию, Филиппа, Георгия, Елену, Александра и Василия.
Неустанно расширял он свою мануфактуру: построил сараи и помещения подсобные, лошадей и технику купил, свиней развёл и стал не только зерном, но и мясом торговать, даже свой цех открыл, лавки и большой магазин. Людей нанял на работу.
Старший сын Филипп – незаменимый помощник, рано проявил серьёзность и деловые качества, склонность к счёту: вёл бухгалтерию, руководил закупками и продажами зерна, муки, хлеба.
И женился Филипп удачно, ребятишки народились – дочь Шурочка и сын Евгений. Отдельный дом купил для своей семьи, а рядом с домом открыл ещё одну хлебную лавку.
Георгий не отставал от старшего брата: взял на себя заготовку и продажу мяса, производство колбас. Самолично следил за убоем скота, разделкой туш, обвалкой и переработкой, руководил магазином. Везде и всюду поспевал!
Павел Алексеевич не мог нарадоваться деловому характеру сыновей: серьёзные люди, настоящие управленцы.
Георгий тоже женился, свой дом у него появился, детки пошли – Витя и Капочка, жить бы всем да радоваться.
Вот и Сашок, средний сын, влился в семейное дело, скоро самостоятельно хозяйничать начнёт, как и братья.
И младшенький Вася его догоняет – семнадцатый год парню. Напоследок послал им Бог сыночка, в сорок один год родила его Пелагея.
Радовались они с женой: хороших детей вырастили, умных, на радость себе и людям.
И была у них мечта большая, одна на двоих: правнуков дождаться. Будет жить молодёжь в этом доме большом, а уж они с Пелагеей всё сделают для счастья своих наследников.
Да только человек предполагает, а Бог располагает.
Настенные часы в гостиной пробили двенадцать часов дня. Стрелки передвинулись на ещё одно деление по циферблату жизни.
Глава пятая
Пильгановы
Мама называла его Васенькой, была нежной и доброй с ним.
Отец, наоборот, в чувствах слыл человеком сдержанным, поэтому сына не баловал и звал только полным именем – Василий. К имени он относился с большим уважением, ведь было оно у них с сыном одно на двоих.
Пильганов-старший родился и вырос в Поволжье, в обрусевшей немецкой семье. На родине предков никогда не бывал, от них ему досталась только фамилия, да и та была настолько переделана на русский манер, что распознать в ней немецкие корни уже и не представлялось возможным. Трудился он на собственной мельнице в провинциальном городке.
Дело спорилось, в семье мир да лад, дети подрастали – дочь и сын, что ещё человеку надо?
В пятнадцать лет дочь Шуру замуж выдали, а тут и сынишка Вася расцвёл своей юношеской красотой, стало понятно: завидный жених в Петровске вырос – высокий, статный, светловолосый, голубоглазый. Днём он работал с отцом на мельнице, а вечером помогал матери по хозяйству.
Парни в этом возрасте скрытные, вот и Василий не признавался, что нравится ему девчонка – косы у неё ниже пояса, а в глазах нежная синева. Девочка скромная, из хорошей семьи.
Впервые увидел её мельком на свадьбе родной сестры: вышла замуж Шура Пильганова за Меренова Александра – двоюродного брата девочки.
В своих мечтах Василий прогуливался с ней под руку по центральной улице Петровска и читал ей стихи, ни о чём другом парень и не помышлял.
Он даже попробовал сочинить несколько строк, записал их на клочке бумаги и носил с собой в кармане до тех пор, пока маменька не постирала брюки вместе с виршами сына.
А вскоре время активистов подоспело. Вступил Василий в Коммунистический Интернационал Молодёжи, выдали ему комсомольский билет и нагрудный значок с пятиконечной красной звездой и надписью КИМ посередине.
Он никогда не опаздывал на комсомольские собрания, а в этот раз, как нарочно, не успел к назначенному часу. Ведь предупреждали же – не опаздывать, собрание архиважное.
Василий вошёл, извинился, сел на последний ряд. Он не сразу понял тему, о чём идёт речь. Лектор убедительно рассказывал о классах, на которые разделились жители города, и о том, что, согласно директиве, Петровское кулачество как многочисленный класс эксплуататоров должно быть уничтожено.
Следом выступил незнакомый гражданин: он рекомендовал составить списки семей к следующей неделе. Для этого комсомольскому активу предлагалось пройтись по подворьям и записать, у кого и сколько домашнего скота, выяснить, есть ли механизмы и наёмные работники в хозяйстве.
Гость
Когда Василий подходил к знакомой улице, сердце стучало, словно колокол. Он и сам не мог понять, зачем его сюда несут ноги, не было у него такого задания. Просто решил сразу после собрания идти к двухэтажному зданию, в котором жила она.
Василий увидел её издалека: девочка возвращалась домой.
Ещё минутка, и массивная входная дверь захлопнется. Василий ускорил шаги.
– Эй, подожди, у меня есть важная новость для твоих родителей, – прокричал он и не узнал свой срывающийся от волнения голос.
Быстро, как на духу, поведал ей правду. Всё, что узнал. Она слушала внимательно, не перебивала, ни одного вопроса не задала. В какой-то миг глаза её наполнились слезами, но она взяла себя в руки и только сказала тихим голосом:
– Лицо твоё мне знакомо, а имя не припомню.
– Василий я.
Ему так хотелось узнать её имя, но смущение было велико, и он промолчал.
– Спасибо тебе.
Девочка ушла.
Когда совсем стемнело, Василий снова вернулся к её дому, но свет в окнах уже был погашен или не проникал сквозь плотные шторы.
Отец и мать Василия больше разволновались от услышанного, чем от позднего прихода сына. Таить им было нечего, не голодали они, конечно, но и богатств не нажили, кроме скромного дома и трудовых мозолей, однако боязно им стало за семью и детей: в неспокойную жизнь вступал уездный городок.
Актив стали собирать часто – почти каждый день. Василий, так любивший общественные поручения, свою значимость в комсомольской жизни Петровска, открытый и весёлый, стал сдержанным, настороженным и грустным.
Там, глубоко внутри себя, Василий-младший знал, чего боится: если родителей девочки раскулачат, то он никогда больше не увидит её.
Морозным вечером в доме купцов Просянкиных раздался требовательный звонок.
На крыльце стоял парень. Он тяжело дышал, изо рта клубился пар. Видно, быстро бежал. Шапку он держал в руке, его волосы покрылись инеем.
– Мне бы с хозяином поговорить, – торопливо произнёс он заготовленные слова миловидной женщине, отворившей дверь.
– Проходите, пожалуйста, – вежливо пригласила она. – Сейчас я его позову.
Василий представлял отца девочки крепким и молодым, а в прихожую вышел пожилой мужчина, седина уже прошлась по его волосам.
– Здравствуйте! Василием меня зовут. Я на заседании актива был, там говорили про вашу семью. Завтра утром придут. Имущество опишут, а вас …, вас… на телегу посадят и в Сибирь повезут.
Дальше Василий ничего сказать не мог, он разрыдался.
– Подожди, сынок, не плачь, – сказал седовласый мужчина и потрепал парня по плечу. – Ты давай, раздевайся, обогрейся, весь с морозу-то как раскраснелся. Чайку попьём, поговорим. Ты чей будешь?
– Мельника Василия Пильганова сын.
– Очень хорошо, Василий Васильевич. Как батюшка поживает?
– В порядке он.
– Вот и замечательно. Милости прошу в залу!
В комнате за большим столом ужинали человек семнадцать, наверное.
– Познакомьтесь, Василий Васильевич, это моя семья: жена, сыновья, невестки, дочери, зять, внуки и внучки. Что ж, встречайте гостя, угощайте чаем!
Василия посадили по центру, налили чай и поставили поближе тарелку с пирожками: капустными и яблочными.
Он стеснялся сначала, но никто его ни о чём не спрашивал, пили чай по-доброму, по-семейному. Когда волнение улеглось, Василий увидел напротив себя девочку в форменном платье из тёмно-синей шерсти. Они встретились глазами и улыбнулись друг другу.
– Паничка, собери гостю пирогов в дорогу, он передаст угощение батюшке и матушке, – попросил Павел Алексеевич.
Теперь Вася знал имя девочки: Паничка!
Когда он распрощался и ушёл, Павел Алексеевич сказал с улыбкой:
– Паничка, вот тебе и жених нашёлся! Хороший этот парень, Василий.
Павел Алексеевич Просянкин отнёсся к предупреждению очень серьёзно.
Понятно, что Василий Васильевич – очень молодой и беспокойный, но сразу видно, что честный паренёк, переживает за чужих людей, не принимает душой решения своих начальников. Значит, правдивый человек – комсомолец Вася Пильганов!
– Что ж, коли так, будем готовиться, – сказал вслух Павел Алексеевич. – Кроме денег, всё остальное не имеет смысла брать с собой.
Затем он подозвал к себе Прасковью.
– Если так сложится, что всех нас увезут, а детей, кому нет четырнадцати, оставят в Петровске, то ты, Паничка, будешь за старшую. Смотри: в эту картину я прячу деньги. На первых порах тебе хватит. А пока живи с родителями здесь, сколь возможно будет.
– Я запомнила, деда. А если меня прогонят из этого дома?
– Ты деньги сразу забери, иди на Белинского к Елене и Ване. Они фамилию с Просянкиных переменили на Мазановых. Дом оформлен на Ваню, не будут же мальчонку десятилетнего раскулачивать? Ты всё поняла, Паничка?
– Да. Как же твой подарок, деда? Здесь останется?
– Паня, ты Паня, – Павел Алексеевич погладил внучку по голове. – Ладно, что-нибудь придумаем со швейной машинкой. Не пропадать же ей?!!
– Василий Никифорович! – обратился он к отцу Прасковьи. – Свези «Зингер» к своей сестре Марии, а Паничка потом заберёт.
– Я поеду с тобой, папа! – сказала Прасковья.
Василий запряг лошадь, погрузил машинку в сани, и они с дочкой оправились за реку Медведицу.
Глава шестая
Последняя ночь
Мария встретила настороженно: с каким известием приехал брат?
– Зингера я привёз, Мария. Пусть у тебя постоит пока. Панина машинка.
– Ой, Вася, прошу тебя, не надо! Ежели комиссия нагрянет, да увидит и родителей здесь, и машинку эту, то сразу и раскулачивать вновь примется. Боюсь я! Дорогую машинку – нет, в дом не возьму. Не сердись на меня.
– Мария, а в подпол если поставить?
– Они везде рыщут, деспоты эти. Подумай о моих детках, Вася.
– Ладно. В огороде хоть позволишь закопать?
Василий ломом пробил мёрзлую землю, вырыл несколько ямок, в них и схоронил разобранный на части Паничкин подарок, а сверху присыпал снегом.
– Запомни хорошенько это место, Паня. Здесь кормилица будет тебя ждать. По весне заберёшь её.
– Папа, почему ты назвал машинку кормилицей?
– Человека кормит ремесло, доченька.
Они зашли в дом попрощаться. Cтаршие Мазановы разволновались, увидев сына.
– Отец, мама, простите меня за всё! Бог видит, нет моей вины в том. Не знаю, свидимся ли ещё?
Слеза покатилась по щеке Никифора Карповича. Он обнял сына.
– Васятка, береги себя, родной! – Анна Федосьевна перекрестила Василия и протянула ему освящённый пояс «Живый в помощи Вышняго».
– Да не приидет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему. Сохранити тя во всех путех твоих, – прошептал молитву отец и перекрестил сына три раза.
– Закрепи пояс на теле, сынок.
– Хорошо, мама!
– Ты Параскеву-то не оставишь разве? Пусть она с нами будет, – предложил Никифор Карпович.
– Деданька, я маму никогда не брошу, – ответила за отца Прасковья.
Обратно ехали долго. Мороз ослабел, повалил снег. Белые хлопья заметали следы полозьев, дорога стала похожей на непаханое белое поле.
Вернулись за полночь. Кругом горел свет: в доме купцов Просянкиных никто не спал.
Его обитатели вели беседы, как будто ничего плохого или мрачного не ожидалось и не происходило с ними. Они проживали последний вечер в собственном доме, наслаждаясь каждой минутой счастливой жизни, которая стремительно уходила, рушилась, ускользала от них, рассеивалась, словно дым.
Евдокия играла на фортепиано Ноктюрн Шопена до-диез минор. Мелодия была красивой и очень грустной.
Прасковья обняла мать.
– Мамочка, мы же не расстанемся с тобой? Мы всегда-всегда будем вместе, да?
Слёзы покатились из глаз Евдокии.
Перед рассветом и старые, и молодые Просянкины покинули дом.
Раскулачивание
А утром нагрянула комиссия.
Трезвонил звонок, входную дверь сотрясали удары.
– Эй, Просянкины, открывайте!
– Кто там? – послышался женский голос из-за двери.
– Районная особая комиссия! Открывайте, а не то дверь сломаем!
Евдокия подчинилась и распахнула парадную дверь.
– Здравствуйте! А хозяев-Просянкиных нет, только одна я с дочкой. Мы родственники, гостили у них, – сказала она.
– Это мы сейчас посмотрим, кто тут есть, а кого нету! – разозлился высокий рыжеволосый мужик в тулупе и овчинной шапке.
Мужчин было двое. Первым делом они стали внимательно осматривать картины и простукивать их пальцами: искали денежные тайники.
– Живописью интересуетесь? – как можно доброжелательнее спросила Евдокия.
– Интересуемся, – ответил тот, что был поменьше ростом, и принялся срывать со стен произведения искусства.
Из одной картины посыпались купюры – припрятанная заначка Павла Алексеевича была обнаружена и изъята.
Нервы Евдокии не выдержали, она закричала.
– Вы не имеете права так себя вести!
– Это у вас никаких правов нету, кончились ваши права! – нагло заявил ей рыжий мужик.
– Вы обязаны зачитать приказ и составить опись имущества! Это – чужая собственность!
Евдокия хотела было что-то ещё сказать, но от сильного волнения голос её сел.
– Мама! Не надо! – Прасковья бросилась к матери.
Евдокию сотрясал нервный озноб: дрожали руки, ноги, стучали зубы.
Прасковья прижалась к матери.
– Мамочка, я тебя очень люблю! Не расстраивайся, пожалуйста. Пусть берут эти картины, -прошептала она.
Две хрупкие женские фигурки, обнявшись, противостояли миру зла.
Обрадовавшись удачной находке, мужики с радостными возгласами принялись вскрывать рамы остальных картин, а потом перешли к зеркалам.
Сокрушив картинную галерею и предметы быта, они добрались до ящиков комодов и шкафов, вытряхивая и выворачивая наизнанку каждую вещь с неистовой силой, будто они, эти вещи, не поддавались или сопротивлялись.
Обнаружив несколько женских украшений, мужики заулюлюкали, потрясая драгоценностями в воздухе, всем своим видом показывая, что отныне и эти украшения, и всё-всё, видимое и невидимое, принадлежит им.
– Бандиты! Грабители! Прекратите немедленно! – хрипло выкрикивала Евдокия.
– Таперича мы вашим кулацким добром распоряжаться будем. Освобождайте дом! – приказал низкорослый косоглазый мужик.
– Мы никуда отсюда не пойдём! И ваши слова нам не указ! Зачитайте документ, фамилии зачитайте, кого раскулачивать пришли!
Напрасно Евдокия взывала к разуму: мужики были неграмотными, не умели они читать и писать, потому ни документов, ни бумаги, ни ручек, ни чернил при них не было.
– Всех, кто в доме этом живёт, и раскулачим разом! – хохотнул рыжебородый.
– Я объясняю вам, что нет хозяев дома, они съехали, только я и дочь. И мы не Просянкины, а их гости.
Глаза рыжего как-то не по-доброму засверкали, он приблизился к Евдокии.
– Говоришь, в доме ты одна и дочь?
– Да, только я и дочь, – подтвердила Евдокия.
Она ещё продолжала надеяться на чудо, что это просто мелкие воришки, сельские мужичонки, решившие поживиться в купеческих домах, пока не нагрянула настоящая комиссия по раскулачиванию.
Рыжий хитро подмигнул напарнику, мол, воспользуемся случаем, раз уж подфартило так.
Затем он резко повернулся к Евдокии, схватил её в охапку и потащил на диван.
– Не смей прикасаться ко мне! – закричала она, но звук её голоса заглушили ладони рыжего мужика.
– Мама, мамочка! Не трогайте мою маму!
Прасковья коршуном бросилась на защиту. Она бесстрашно молотила кулаками по спине громадного дядьки, шапка свалилась с головы насильника, и девочке удалось вцепиться в его волосы.
И тут косой мужик-молчун подкрался к девушке и повалил её на пол.
– Пааа… ааа… пааа! Папочка! Нас убивают! – истошно закричала Прасковья.
Евдокия плакала от ярости и бессилия:
– Нелюди! Будьте вы прокляты!
Прятаться дальше не было смысла.
Василий ворвался в комнату. В его руках была кочерга.
Таким свирепым Прасковья ещё ни разу в жизни не видела своего отца.
– Паскуды! Нет на вас креста! Убью!
Он наносил удары по спинам мужиков, их тулупы порвались, они выли от боли, а Василий продолжал охаживать их металлической палкой.
– Псы поганые! Вы раскулачивание своё сотворили, чтобы грабить и насильничать?
Рыжебородый великан скатился на пол и закрыл голову руками. Второй мужик отполз к окну и пытался укрыться за шторой, но карниз не выдержал и рухнул.
– Вооружённое нападение! Контрреволюционный мятеж! – бубнил низкорослый из-под бархатной ткани. – Я непременно доложу, куда следует.
– Что ты тут городишь, харя бесстыжая? – Василий рывком поднял обидчика.
– Я… упреждаю тебя, что за всё ответишь. Сопротивление власти! – лепетал испуганный мужичонка.
– Ещё одно слово, и я убью вас обоих и закопаю здесь же, в подвале этого дома. Ни одна комиссия никогда не сыщет! – пригрозил Василий.
Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но в открытую парадную дверь вошёл извозчик.
– Эй, вы там! Поспешайте! Лошади стынут, уж мочи нету стоять!
Воспользовавшись моментом, рыжий мужик вскочил, нахлобучил свою шапку и выбежал из дома.
Мелкий, почувствовав себя в безопасности, задержался.
Он подошёл вплотную к Василию и сказал:
– Я вспомнил тебя, Мазанов! Ты на рынке колбасой торговал, а отец твой в церкви работал. У Просянкиных, значит, прячешься? Ужо постараюсь, чтобы за угрозы и побои, которые ты нам учинил, дали тебе не меньше, чем расстрел.
Затем он повернулся в сторону рыдающих Евдокии и Прасковьи:
– Мадамы, милости прошу на подводу! Отныне дом ваш принадлежит народу!
– На детей не распространяется раскулачивание! Дети не в ответе за родителей! – Евдокия пыталась загородить собой дочь.
– На всех кулаков, гражданочка, указ распространяется: и на вас, и на выродков ваших.
Он злобно глянул косым глазом в сторону Прасковьи и сплюнул кровь на паркетный пол:
– Кулацкое отродье!
Глава седьмая
Прощание
Комсомолец Василий Пильганов стоял на соседней улице и видел, как к дому девочки подъехали подводы, как долго не выходили люди.
Он весь продрог в затянувшемся ожидании, поэтому прыгал с одной ноги на другую, пытаясь согреться. Мороз был нешуточный, даже в валенках ноги мгновенно леденели.
И вот, наконец, показались члены комиссии, а за ними минут через десять из дома вышли трое: молодой мужчина с усами вёл под руки укутанных в пуховые платки Паничку и её маму. Он помог им взобраться на телегу, а потом запрыгнул сам.
– Трогай! – приказал извозчику рыжебородый человек в разорванном тулупе.
Конная повозка медленно отъехала от дома.
За ней бежал парень. Его валенки скользили, он всё время падал, но тут же поднимался и продолжал бег. Он кричал девочке, что будет ждать её возвращения, но Паничка ничего не видела и не слышала в тот момент.
Полозья оставляли на снегу две параллельные линии, ведущие в бесконечность.
Горсовет
Никто не ожидал такой прыти от Павла Просянкина.
Это же надо: купец добровольно пришёл сдаваться!
– Пал Ликсеич пожаловали. Собственной персоной, – доложил секретарь Горсовета.
Председатель всполошился, предложил необычному посетителю присесть в единственное кресло, но гость вежливо отказался.








