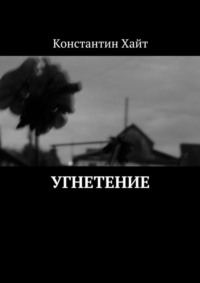Полная версия
Самоучитель Истории Запада. Книга первая. Дела недавние
А вот конфликт Германии с любой из сторон был далеко не очевиден. Здесь надо отметить, что сейчас мы знаем Гитлера, как альтер эго сатаны, а его партию, как воплощение абсолютного зла. Один из самых частых вопросов, например, про финнов или румын – «как они могли воевать за Гитлера». Но люди тридцатых годов ХХ века смотрели на вещи совершенно иначе, для большинства из них национал-социалистский режим отнюдь не был чем-то заведомо плохим и уж тем паче нерукопожатым. Во первых Гитлер пришел к власти вполне законно, путем самых честных и демократических выборов, которые в принципе проводились на тот момент. Легитимность канцлера и его партии никто не оспаривал, и немецкое правительство признавалось во всем мире. Налицо были также весьма солидные экономические успехи, достигнутые за рекордно короткий срок, а также невиданный национальный подъем и единение. Многие политики того времени открыто завидовали германскому коллеге и старались учиться на его примере.
Никакой особенной жестокости за фюрером и его сторонниками также на тот момент не числилось. «Ночь длинных ножей»23 – обычные внутрипартийные разборки, какие случаются во многих странах и сейчас, для того беспокойного времени не представляла ничего необычного. Да и по масштабу выглядела весьма умеренно: на фоне, например, сталинских политических процессов – так вовсе ни о чем. Да, НСДАП отличалась весьма специфическим отношением к коммунистам и евреям, Нюрнбергские расовые законы выглядели неприятно… Но и здесь не прослеживалось ничего необычного – ненависть к большевизму была, а местами и остается характерной чертой западного менталитета, а расовая и национальная сегрегация, включая законы, очень похожие на немецкие, сохранялась, например, в США даже после войны. Да, Гитлер был довольно эксцентричной личностью, неприятным партнером по переговорам и упертым фанатиком-патриотом, но ни одна из этих черт не дискредитировала его, как политика. А до газовых камер и массовых расстрелов военнопленных оставалось еще несколько лет и всерьез такое развитие событий никак не рассматривалось.
Отношения Советского Союза с Германией до войны были неровными, но большую часть времени – скорее позитивными: сказывалась общность интересов европейских изгоев. Версальский мир выбросил обе страны на обочину мировой политики и помогать друг другу было для них естественнее, чем враждовать. Кроме того, немецкий народ в массе явно тяготел к социализму и чуть было не организовал второе в Европе социалистическое государство, что также роднило между собой если не правящие режимы, то по крайней мере нации.
Еще более противоестественным казался многим конфликт между Германией и Англией. Несмотря на противостояние Первой мировой, между странами существовала двухвековая традиция сотрудничества, скрепленная этнической близостью народов и кровным родством аристократии. С точки зрения расовой теории англичане никак не могли считаться неполноценной нацией, поскольку относились к тем же германским народам – саксам и кельтам. Британские короли были этническими немцами и в принципе ни у Германии не было серьезных исторических претензий к Англии, ни наоборот. Наконец, странам было особо нечего делить: общей границы и территориальных претензий не имелось, а британские колонии, в отличие от начала столетия, уже не представляли для немцев особенного интереса. И в немецкой, и в британской элите существовали мощные фракции, считавшие, что интересы двух государств в предстоящей войне практически совпадают. И, чтобы в итоге оказаться по разные стороны баррикад, немцам в итоге пришлось отречься от Гесса24 – второго человека в государстве, а англичанам – от Эдуарда VIII25 – своего законного короля.
На востоке тоже все было запутано до предела. Россия и Япония с начала столетия находились в весьма напряженных отношениях и несколько раз воевали между собой – однажды по-крупному и много раз по мелочи. Японское правительство не скрывало притязаний на Дальний Восток, но не могло одновременно воевать и на западе, и на юге, а одновременный конфликт и с европейскими метрополиями, и с СССР, и с США выглядел откровенным самоубийством. В то же время Советскому Союзу от Японии не нужно было ничего, кроме мира, его основные интересы формировались в Европе, а не в Азии26.
В итоге вся дипломатия в Европе свелась к тому, что англо-французская коалиция с одной стороны, и СССР с другой, ударно науськивали Гитлера друг на друга из соображений «стравить наци с врагом, как следует подготовиться, а потом навалиться на победителя». В итоге всей этой византийщиной лучше всего воспользовались немцы, сначала при пассивной поддержке Запада собравшие под себя центральную Европу, потом с советской помощью разгромившие Францию и обескровившие Англию, и, наконец, нанесшие сокрушительный удар на восток. В Азии советская дипломатия оказалась эффективнее, и удар Японии пришелся по англичанам, голландцам, а затем по Соединенным Штатам.
Но такой расклад сложился в самый последний момент, и в общем-то был вовсе необязателен. Уже в ходе Второй Мировой, когда Красная армия, заливая кровью карельские болота рвалась в Финляндию, французские добровольцы грузились на суда, намереваясь защитить финнов от «большевистской агрессии», а британские доминионы слали в Хельсинки самолеты и оружие. Промедли вермахт с разгромом Франции – никакой антигитлеровской коалиции с участием СССР могло бы и не получиться, тем паче, что в Польшу, и тем самым в войну, Советский Союз вступил заодно с Германией. А если бы вместо Перл Харбора бомбардировке подвергся бы Владивосток, Соединенные Штаты вряд ли стали бы активно этому препятствовать. Все три военно-политических блока не питали друг к другу абсолютно никакой симпатии, и охотно объединялись в любой комбинации, имея конечную цель максимально ослабить, а если повезет, то и уничтожить оба остальных.
Стоит ли удивляться, что как только скорая победа над Германией стала очевидной, вчерашние союзники перессорились между собой? Да и вряд ли можно назвать ссорой то, что представлялось скорее политической целесообразностью. Сталин, Рузвельт и Черчилль могли собираться хоть в Ялте, хоть в Тегеране и договариваться о сферах влияния и послевоенном устройстве мира, все эти договоренности оставались исключительно вынужденным компромиссом, ибо представления о том, что справедливо, правильно и соответствует их «национальным интересам» были практически противоположны изначально.
Танки против танков
Мальчики любят танчики и, зачастую, представляют себе войну, как столкновение танковых армад. Т-34 с одной стороны, «Тигры» и «Пантеры» – с другой. Танки создают ощущение защищенности и безнаказанности одновременно: как будто у тебя самого вырастает тысячесильный мотор и длинная всепробивающая пушка, укрытые толстой броней, против которой бессильно любое другое оружие.
Миф о непобедимости танковых армад – чисто советское явление, наследие даже не Второй Мировой, а ядреной довоенной пропаганды, убеждавший красноармейцев, что бояться, в сущности, нечего – толстая броня и могучие моторы сделают войну легкой и безопасной.
Несмотря на не слишком впечатляющие результаты, в России танки любят и по сей день, запасая их впрок в количествах, для остального мира недостижимых. Как тут не вспомнить, что и перед войной у СССР танков было больше, чем у всех остальных держав, взятых вместе. От жестоких разгромов это, к сожалению, никак не спасло.
Справедливости ради, танки не создавались и не претендовали на роль универсального оружия. Они появились в Первую Мировую, когда стало понятно, что при тогдашнем уровне техники пехота практически не имеет шансов прорвать хорошо укрепленные рубежи противника, что кавалерия неэффективна против пулеметов и сплошного фронта, и нужно что-то совершенно новое, чтобы вывести войну из окопного тупика. В Первую Мировую вообще много чего пробовали: и аэропланы, и дирижабли, и боевые отравляющие вещества. Танки прижились, но прижились в двух качествах: как оружие прорыва (в Англии их называли «пехотными», а в СССР «средними» и «тяжелыми») и как мобильное средство, чтобы гонять по тылам противника после успеха этого самого прорыва, взамен кавалерии (в Англии такие танки так и называли – «кавалерийские», а в СССР – «легкие»). Первые впоследствии так и остались танками, вторые – трансформировались в разнообразные бронетранспортеры, боевые машины пехоты и даже просто вооруженные джипы, наследники знаменитых тачанок.
Как только танки показали свою применимость, встал вопрос о борьбе с ними – на всякое оружие немедленно появляются средства противодействия. Ответом стала противотанковая артиллерия, противотанковые ружья, а к концу войны – ручные противотанковые гранатометы: базуки и фаустпатроны. То, чем можно максимально плотно насытить обороняющиеся порядки пехоты: танк – оружие нападения, их появление на поле боя внезапно, и везде к нему следует быть готовым.
У противотанковой артиллерии, средства, в принципе, эффективного, было два недостатка – низкая мобильность и малая защищенность. И, хотя стрельба с места, желательно из засады по пристрелянным ориентирам, гораздо эффективнее стрельбы на ходу, у танка тоже есть пушка, и он быстро перемещается туда-сюда. Поэтому, как только появилась возможность, артиллерию стали ставить на колеса или гусеницы и защищать какой-никакой броней. Не такой толстой, как у танка – иначе она станет дорогой и неповоротливой, но чтобы от осколков прикрывала. Так появились самоходные орудия – оружие, на танк похожее, но, преимущественно, оборонительное.
Задача танка – рвать на всем газу по траншеям и окопам противника, помогая своей пехоте идти в атаку. Задача самоходки – тихо выдвинуться на удобную позицию, накрыть противника парой залпов, и перебраться в другое место до того, как от него прилетит ответ.
Война «танки против танков», столь популярная у мальчишек всех возрастов – явление, которого профессиональные военные изо всех сил стремились и продолжают стремиться избегать. Конечно, бронированный ящик с пушкой можно использовать и по такому назначению – но зачем? К чему подвергать опасности дорогостоящую технику, отправляя ее заниматься делом, для которого она совершенно не приспособлена, если есть более простые, дешевые, и не менее эффективные средства?
В тех же случаях, когда танки все-таки сталкивались с танками, это происходило преимущественно случайно. И обе стороны, ошарашенно вращая башнями, старались поскорее убраться к своим – отрезанный от пехоты танк – гарантированная добыча для противника. Кстати, в дотанковую эпоху именно так вела себя кавалерия: разгон – короткая сшибка – разъехались. Потому, что стоит появиться на поле брани крепко стоящему на ногах человеку с ружьем – и конник становится легкой мишенью для пули. Джеб Стюарт27 тому порукой.
Второй фронт и товарищи по оружию
От любого исторического явления, события или процесса у нас остаются источники: свидетельства очевидцев, воспоминания, археологические находки. Они служат первоисточником наших знаний, но не заменяют взвешенного анализа – людям, находящимся внутри событий трудно судить о них объективно и беспристрастно. Как правило современники так, или иначе заинтересованы, ангажированы какой-либо точкой зрения, и только с высоты прошедших лет можно увидеть более, или менее объективную картину того, что имело место на самом деле.
Кроме того, очевидец видит событие с одной строго определенной точки зрения. Логика и контекст остальных участников ему, как правило, неизвестны. Поэтому, чтобы понять природу исторических процессов, приходится анализировать все множество источников – чем больше, тем лучше.
От фронтовиков нам досталась легенда-мечта, мол советский народ вынес всю тяжесть войны в одиночку потому, что союзники не открыли второй фронт. Не желали сражаться за общее дело, отделывались подачками.
Легко понять, откуда она взялась: когда сидишь в окопе под пулями, отступаешь по снегу и грязи, голодаешь и бросаешься на пулемет, хочется, чтобы случилось чудо, спустился с неба добренький боженька, или явилась нежданная помощь и принесла спасение и надежду.
Когда об открытии второго фронта рассуждает советский солдат, или офицер, знающий о состоянии дел из многократно перелопаченного цензурой «боевого листка», это простительно. Но, скажем, Сталин постоянно требовавший от союзников открытия второго фронта, был осведомлен гораздо лучше. На что рассчитывал он? Кто должен был ударить в спину вермахту, где и когда?
До 1941 говорить о втором фронте не приходится. Вернее, западный фронт тогда как раз существовал, но был тогда не только первым, но и в основном единственным. Советский Союз в тот момент с Германией не воевал, поскольку, по официальной версии, «был не готов», зато воевал с Польшей – на стороне немцев, и с Финляндией28 – на своей собственной.
Больше всего военная помощь союзников пригодилась бы как раз в 1941, в тяжелое время котлов и отступлений. Когда все силы Гитлера были брошены на восток, самое время ударить на него с другой стороны… но кому? Франции, как державы, более не существует, ее ошметок – режим Виши, союзен Германии. Америка в войне не участвует, сухопутной армии по-существу не имеет, а ее флот весь собран на Тихом океане в ожидании предстоящей драки с японцами. Это к концу войны Америка станет первоклассной военной державой, а кораблей у нее будет столько, что их без сожаления можно будет пачками топить при ядерных испытаниях29. А в 1941 воевать на востоке ей практически нечем.
Как и Англии. Ее армия деморализована, вооружение брошено в Дюнкерке. Только что английские летчики с трудом предотвратили вторжение на Британские острова30, случись оно – сопротивляться было бы некому и нечем. Кроме того, нужно охранять многочисленные колонии, в то время, как флот – единственное, чем империя действительно располагает, распылен и несет потерю за потерей. Когда в конце года понадобится защищать Сингапур31 – одну из главных военных баз и самых значимых владений короны, все, что сможет сделать Британия – отправить пару линкоров. Которые и найдут там быстрый и бесславный конец32. Англии образца 1941 не до второго фронта, ее больше заботит уцелеть в принципе.
Тогда может быть 1942? Как пригодилась бы новость о высадке в Нормандии в разгар сражений под Харьковом, во время обороны Севастополя, в самый трагичный момент, когда все рушилось и горело. Но лето сорок второго года – страшное время не только для Советского Союза, это страшное время для всех. Немцы на Крите. Итальянцы топят один за другим мальтийские конвои. Роммель гонит англичан к Египту – Средиземное море почти потеряно. А для стран Оси это не только безопасность с юга и свобода морских коммуникаций, но и выход на Ближний восток, к арабской нефти, главному ресурсу, которого им так не хватает. Японцы от души метелят янки, дело пахнет высадкой в Австралии, а то и в Орегоне. После Перл Харбора защищаться почти нечем, одни и те же кораблики снуют по всему громадному океану, прикрывая то юг, то север. Даже внезапная победа при Мидуэе33 ничего особенно не меняет, это сейчас мы знаем, что она стала переломной, но тогда за ней снова следуют неудача за неудачей. В 1942 Япония и Германия все еще сильнее Союзников, и только к концу года, после Эль Аламейна соотношение начинает меняться. Этим пользуются незамедлительно – в ноябре американцы с англичанами высаживаются в Марокко и Алжире, для немцев и итальянцев вечер перестает быть томным. Но это, разумеется, не тот второй фронт, о котором мечтает измученный и чудом уцелевший советский солдат, и который все еще нужен Сталину.
Тогда может быть 1943? В сорок третьем второй фронт случается. Союзники высаживаются на Сицилии34, а затем в Италии, откуда до Германии в общем-то рукой подать. Триумфальное шествие к Риму выводит Италию из войны, но как только место обороняющихся занимают немецкие войска, начинается тяжелая многомесячная рубка за Монте Кассино: вермахт 1943 – все еще достойный противник, которого нельзя быстро сокрушить ударами необстрелянных новичков. Это, кстати, Красная армия сполна ощутила на Курской дуге парой месяцев ранее – несмотря на многократное превосходство во всем, несмотря на точное знание планов противника благодаря собственной и британской разведке, несмотря на то, что немцы уже не располагали превосходством в воздухе, советские войска вели ожесточенные бои и переломили исход сражения только когда у противника иссякли всяческие ресурсы. Которые можно было бы пополнить войсками с юга, но теперь им приходилось впахиваться за итальянцев. Это все еще не тот «второй фронт», но это все, что могли сделать на тот момент союзники в Европе.
А в сорок четвертом второй фронт случается по-настоящему, но теперь он нужен Сталину, как кошке пятая нога. Сталин уже не сомневается в своей способности самостоятельно освободить Европу, и распорядиться победой по собственному усмотрению. Но и союзники отлично понимают, что пока они ломятся в закрытую дверь Аппенин, Т-34 могут докатиться до Атлантики. И тогда попробуй подвинь их обратно. После высадки в Нормандии, война превращается в гонку, цель которой – получить как можно больший кус перед неизбежным послевоенным дележом. Спешка дается большой кровью, совсем необязательной в условиях, когда победа уже совершенно неизбежна, но теперь она вызвана геополитикой35, желанием не только выиграть войну, но и выиграть от войны. Апофеозом становится двукратная капитуляция Германии: сначала седьмого мая в Реймсе без участия СССР, а затем восьмого – в полном составе. В итоге запад празднует победу восьмого, а Россия – девятого – в зависимости от того, кому какая капитуляция больше нравится.
Собственно, именно такая долгожданная высадка в Нормандии и привела к тому, что Советский Союз практически ничего не выиграл от войны. Правда, очень скоро он смог немного поквитаться, устроив гонку на востоке: разгром Квантунской армии был для американцев точно такой же медвежьей услугой, формально – исполнением союзнических обязательств, а фактически – борьбой за кусок послевоенного пирога36. В августе 1945 США без больших трудностей наваляли бы микадо37 и без посторонней помощи, но тогда сегодня мы имели бы капиталистический Китай под правлением гоминьдана38.
С самой большой в мире, закаленной в боях армией, лучшей техникой поля боя и готовностью сражаться до последнего солдата, Сталин мог бы претендовать и на большее. Но вовремя сброшенные «Малыш» и «Толстяк»39 и наличие у Штатов стратегических бомбардировщиков, способный при необходимости донести атомную бомбу хоть до Москвы, убедили генералиссимуса согласиться на довольно скромный вариант дележки. После этого советская армия начала понемногу демобилизовываться и распускаться по домам. Но горечь обиды Сталин не простил ни своим, ни чужим, американцы отныне получали подножку везде, где можно, а дело Шахурина40 ознаменовало возобновление репрессий против всех, кого можно было хоть как-то обвинить в неудаче.
А мог бы Гитлер победить?
Говорят, что история не любит сослагательного наклонения. Тем не менее, чтобы понять причины тех, или иных решений и логику их принятия, часто необходимо рассматривать альтернативные сценарии развития событий. Ведь современники не знали, чем кончится дело, а потому опирались на предположения, в том числе не оправдавшиеся.
Кроме того, весь смысл изучения прошлого в том, чтобы делать выводы на будущее. Как из того, что действительно случилось, так и из того, что могло произойти.
Историю не рекомендуют рассматривать в сослагательном наклонении. «Если бы, да кабы»… И, тем не менее, разговоры «что могло бы случиться» возникают постоянно, и в них есть резон: раз мы говорим о закономерностях исторического процесса, о прогнозировании будущего, о причинах и следствиях, приходится не только разбираться в том, что случилось, но и додумывать, что могло бы случиться.
Политически Германия победить вряд ли могла бы: у этого утверждения есть железобетонное объяснение. Нацистский режим зиждился на превосходстве немецкой, точнее арийской, расы. Отказаться от этого тезиса Германия не могла, именно за это превосходство воевал рядовой немецкий солдат, именно в его утверждении был для большинства смысл войны. Естественно, что такая, заведомо высокомерная позиция, исключает многие формы сотрудничества с населением завоеванных стран, фактически – любые, кроме безусловного неукоснительного подчинения. А управлять сотнями миллионов человек методом грубой силы невозможно, ни Рим, ни Британия с этой задачей не справились. Не осилил бы, по-видимому, и Рейх.
А вот с военной точки зрения победа Оси была, пожалуй, вполне возможна. По крайней мере в середине 1942 года дело Союзников висело на волоске.
На восточном фронте Харьковская катастрофа41 и катастрофа в Крыму42 привели к тому, что весь южный фланг Красной армии фактически перестал существовать. Наступление вермахта сдерживала только протяженность коммуникаций, да нехватка людей, чтобы занимать все увеличивающуюся территорию, и без того слишком большую, чтобы без проблем ей распоряжаться. Чтобы оправиться от удара Советскому Союзу нужны были ресурсы, но большая часть их сгорела в поражениях сорок первого и нынешних – сорок второго, а чтобы восполнять их силами эвакуированных в чистое поле заводов требовалось время. К тому же армия оставляла самые плодородные районы страны – намечался голод. А без еды ни рабочий танк не сделает, ни боец в нем воевать не сможет, даже если будет и сталь, и солярка, и станки, и доменные печи.
Можно было покрыть нехватку американским ленд-лизом43. Но как раз в этот момент немцы заткнули арктическую дыру, через которую он просачивался на советский север, участь каравана PQ-17 трагична не только гибелью моряков, но и захлопыванием главного логистического окна между Россией и ее союзниками.
У англичан дела немногим лучше. После успеха немецкого десанта на Крите Роммель гонит их на восток, еще чуть-чуть – и эвакуация Египта станет реальностью. А это, между прочим, не ерунда, а прямая дорога Германии к арабской нефти, не говоря уже о рукопожатии японских союзников через Суэцкий канал. Замкнув путь вокруг Евразии, немцы и японцы окружают СССР кольцом, одновременно отсекая Британию от оставшихся восточных колоний. Пока линия Гибралтар – Мальта – Александрия позволяет британскому флоту держаться, но потери средиземноморских конвоев еще ужаснее, чем арктических. Еще несколько недель – и Мальта останется без самолетов и топлива, а с падением острова Средиземное море становится немецким и итальянским44.
В Атлантике идет суровая битва между немецкими подводниками и британскими эсминцами. Там тоже все плохо – сократить потопленный тоннаж не удается, идущие из Америки вооружение и продовольствие отправляется на дно во все более угрожающих количествах. А в Азии японцы безнаказанно занимают остров за островом, их высадка в Австралии – дело почти решенное, но нет и гарантий, что война не придет непосредственно на территорию США. Если так – все ресурсы Америка бросит на защиту себя, и тогда у русских и англичан шансы выстоять совсем призрачные.
Если посмотреть на карту глазами союзников по антигитлеровской коалиции – война для них уже проиграна, и спасти положение может только чудо45. Впрочем, даже и одним чудом не обойдешься, нужна целая полоса везения. И она появляется.
Первый фарт сваливается американцам. На которых неумолимо надвигается с запада победоносная японская армия и непобедимый японский флот. На пути этих армад, аккурат посередине океана, лежит крошечный атолл Мидуэй, где кроме военного аэродрома ничего нет. Но аэродром этот очень нужен и занимающим его американцам, и зарящемся на него японцам – иметь стационарный «непотопляемый» авианосец на полдороги к противнику весьма полезно.
В борьбе за крохотный Мидуэй у янки было одно преимущество: они давно уже умели читать японские шифры, и планы многих операций противника не были для них секретом. И был один недостаток: они просто хуже умели воевать. К тому же американские торпеды, наспех принятые на вооружение перед самой войной, обладали прискорбным свойством не взрываться. Подводные лодки, эсминцы, самолеты-торпедоносцы, катера выходили в героические атаки – и ничего не случалось. Люди шли на смерть в надежде нанести удар по врагу, но оружие, которым этот удар наносился, оказалось никуда не годным46. Летом сорок второго об этом еще никто не знал.
У атолла Мидуэй американский адмирал Нимиц устроил японцам классическую засаду. Три авианосца под прикрытием всего, что удалось собрать, затаились неподалеку от острова, поджидая неприятельский десант, сопровождаемый большей частью вражеского флота. Подстерегли – и обрушились на японцев армадой из трех с половиной сотен самолетов.
Обрушиться-то обрушились, но пользы от этого обрушения было мало. Потому, что торпеды не взрываются, летчики не обучены, координации между командирами ни на грош. Одна за другой американские эскадрильи вываливались на японский флот и гибли под огнем знаменитых истребителей «Зеро» и зенитной артиллерии авианосного эскорта. Первая, вторая, третья, восьмая… упорства летчикам было не занимать, но результат оставался прежним.