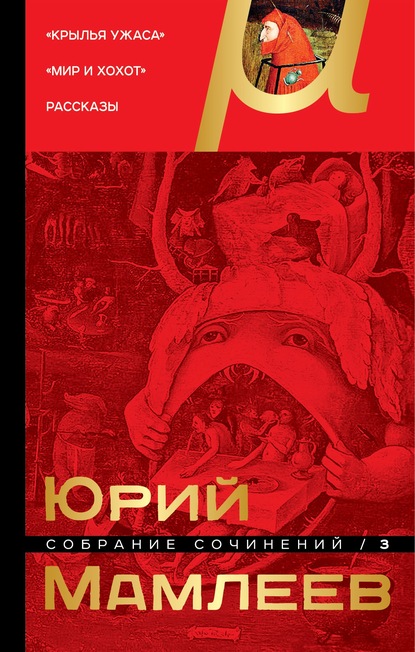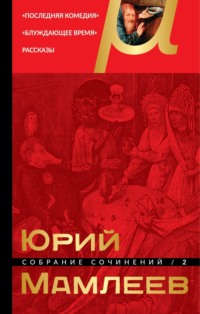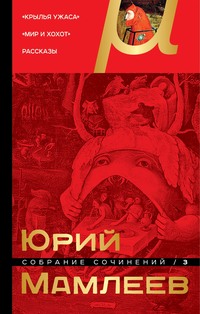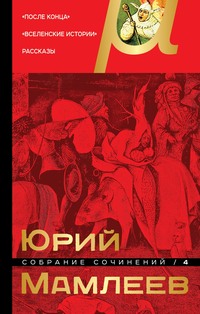Полная версия
Собрание сочинений. Том 1. Шатуны. Южинский цикл. Рассказы 60 – 70-х годов
– Поедете ли вы в Лебединое? – неожиданно спросил Падов у Федора.
Федор промычал. А потом в доме, у Ипатьевны, когда из-под кровати вылез мальчик, добывающий ей кошек, выяснилось, что Федор приедет в Лебединое спустя. Он сказал это, сидя на табуретке, когда расширенными глазами смотрел в пол.
Но Падова потянуло в Москву, к вихрю, к друзьям, к знакомому мистицизму, а потом – непременно – в Лебединое. Ему захотелось совместить в своем уме и Федора и «старое». «Поеду-ка я к Ремину», – решил он.
Раскланявшись промолчавшей в пустоту Ипатьевне, Падов исчез.
VГеннадий Ремин принадлежал к тому же поколению, что Падов. Он считался одним из лучших подпольных поэтов, но некоторые циклы его стихов не доходили даже до его разнузданных поклонников; кое-что, например сборник «Эго – трупная лирика», он хранил в ящике, никому не показывая.
Через учеников Глубева он познакомился в свое время с религией Я. И возгорелся душою. Он глубоко ощущал некоторые теоретические нюансы этой подпольной метафизики.
Его восхищало, например, главное положение новой религии о том, что объектом поклонения, любви и веры должно быть собственное Я верующего. Однако под этим Я имелось в виду прежде всего то, что раскрывалось как бессмертное, вечное начало, как дух. Я являлось таким образом абсолютной и трансцендентной реальностью. И в то же время оно было личным Я верующего, но уже духовно реализованным. Мое бытие в качестве человека понималось, следовательно, лишь как момент в моем вечном самобытии.
Второй принцип, который особенно привлекал Ремина, заключался в том, что на всех ступенях бытия собственное Я остается единственной реальностью и высшей ценностью (поэтому понятие о Боге как отделенной от Я реальности теряло смысл в этой религии). С другой стороны, ценность имели все формы самобытия (связанные с высшим Я единой нитью) – если любовь к ним не противоречила любви к высшему Я.
Таким образом, это учение оказывалось по некоторым своим моментам близким к солипсизму, но к довольно особенному солипсизму, неординарному. Огромное знание имела мистическая бесконечная любовь к Себе. Сверхчеловеческий нарциссизм был одним из главных принципов (и, видимо, был аналогом той глубочайшей любви Бога к Самому Себе, о которой говорили средневековые мистики).
Определенного рода медитации и молитвы направлялись к высшему Я, то есть, по сути, к потусторонней реальности, которая в то же время являлась собственным Я (или его высшей формой), скрытым в данный момент.
Следовательно, это не было религией эгоизма (ибо эгоизм – предательство по отношению к высшему Я) или религией обожествления человека или личности (так как высшее Я как трансцендентное, запредельное выходило за круг человеческого существования). Но эта религия (точнее, метафизика) не соответствовала и учениям, основанным на идее Бога, включая и тот их вариант, когда под Богом понималось высшее Я: ибо в этом случае абсолютизировалась только та сторона Я, которая тождественна Богу, в то время как религия Я, связанная с особым видом солипсизма, шла гораздо дальше…
Ремин верил, что многие органические положения этой метафизики близки к глубокой сути его души: он чувствовал, что наконец нашел нечто настоящее для себя… но он не мог долго быть в этом; он не выдерживал всей бездны такой веры; его мучили различные сомнения и страхи; он впадал в истерику; и наконец внутренне отходил от религии Я, удаляясь в метафизическое «безумие», столь милое сердцу Анатолия Падова.
Падов, вернувшись от Федора в Москву, начал разыскивать Ремина… Ему хотелось затащить его в Лебединое.
Ночь Толя провел в своей московской, мрачной и узкой комнате, в окно которой, не раз взбираясь по трубе, заглядывал Пинюшкин – странное существо, так боявшееся самого себя, что его тянуло все время вверх, на крыши. На сей раз Толя проснулся рано утром: и в полуутренней, загадочной тьме, готовой разорваться, спонтанны и неожиданны, как духи, были зажегшиеся в окнах больших домов огни. Холод воскресения после сна укалывал сознание Падова.
Чуть непонятный для самого себя, он вышел на улицу, вдруг понадеявшись увидеть Ремина в самой ранней московской пивнушке, на Грузинской улице.
Подойдя, глянул в ее мутные, но необычайно широкие окна, и увидел, что она почти пуста. Но за одним столиком, прямо рядом, у окна, среди лохмато-крикливой, точно рвущейся на потолок компании Падов увидел Ремина. Он сидел, облокотив свою поэтическую, пропитую голову на руку. Другие были полунезнакомые Падова: четыре бродячих философа, которые, вместе со своими поклонниками, образовывали особый замкнутый круг в московском подпольном мире. Вид у них был помятый, изжеванный, движения угловатые, не от мира сего, но общее выражение лиц – оголтело-трансцендентное.
На одном личике так прямо и была написана некая неземная наглость, точно ничего вещественного для этого типа не существовало. Он постоянно плевал в свою кружку с пивом. Его звали почему-то женским именем Таня, и хотя вкрадывалось впечатление, что его все время бьют какие-то невидимые, но увесистые силы, выглядел он по отношению ко всему земному истерически нагло, а вообще – замороченно.
Другой философ – Юра – был очень толст, мутен, словно с чуть залитыми глазами аскета, вставленным в трансцендентно-облеванную свинью; кроме того, ему казалось, что его вот-вот зарежут.
Третий – Витя – был вообще черт-те что: все пункты его лица стояли торчком, а душа, по сути, была сморщена.
Про него – шепотком, по всем мистически-помойным уголкам Москвы – говорили, что Витя не единственный, кто воспринял в своем уме «мысли» Высших Иерархий, но тяжести оных не выдержал и… одичал.
Четвертый философ был почти невидим…
Между тем Толя с радостным криком вбежал в пивную.
Юра как раз заканчивал свою речь об Абсолюте.
– Господа, нас предали! – закричал Падов.
– Кто?
– Абсолют. Только что я узнал.
Друзья расцеловались. Ремин прямо-таки повис на шее у Падова. А Таня даже завыл от восторга: он очень любил метафизические сплетни.
Толя присел рядом.
Сморщенный Витя смотрел на него одухотворенно-скрытыми глазками; несколько раз он что-то промычал и, изогнувшись, с шипением, упал под стол. Тот, почти невидимый, принял это за знак.
– А ты все в тоске и водке, Гена?! – начал Падов…
Ремин смотрел на все вокруг просветленно чистыми от спирта глазами.
– Соберутся мертвецы, мертвецыМатом меня ругать,И с улыбкой на них со стеныБудет глядеть моя мать, —пропел он, устремив взгляд куда-то в сторону.
– А у Абсолюта рука тяжелая, – проговорил Юра, пугливо озираясь на облачка за окном. – Сила Его в том, что Его никто не видит, но зато здорово на своей шкуре чувствует…
– За столом да в телогрейке сидитЧерный, слепой монах,Надрываясь, ребенок кричит,Кем-то забытый в сенях.Я не хочу загадывать.Когда я здесь умру… —продолжал Ремин.
– Да ты больше всех пьян, – перебил его Падов. – И совсем не вписываешься к философам. Пойдем-ка, надо поговорить.
Из-под стола вылез сморщенный Витя и строго на всех посмотрел.
Простившись с бродячими, Падов вывел своего друга на улицу и повел его в садик; немного спустя Ремину стало легче.
Через некоторое время они оказались у своего знакомого, в серой, непривычной комнате, за которой – с балкона – виден был уходящий, растерзанный простор. «Недаром даль и пространство давно стали инобытием русского Духа», – подумал Падов. В комнату зашли не спросясь: она значилась всегда открытой для подполья. Хозяин спал на диване: почти все время он проводил во сне, тихо с загибанием рук, наблюдая свои сны. На его спине можно было распивать водку. Рот его был полуоткрыт, точно туда вставила палец вышедшая из его сна галлюцинация.
Падов, в дерганьях и озарении, рассказал Ремину о Лебедином. Гена, обласканный словами о Федоре и Клавуше, заснул у Падова на груди.
На следующее утро решили ехать в «гнездо».
VIВскоре в Лебедином творилось черт знает что.
– Съехались, съехались… съехались! – громко кричала и хлопала в ладоши, глядя прямо перед собой непонятными глазами, девочка Мила.
Действительно, в Лебедином находились, кроме хозяев, куро-трупа и Аннушки, еще Падов с Реминым и ангелочек Игорек, из садистиков. Шальной и развевающийся, точно юный Моцарт, он носился по двору, готовый обнять и прокусить все живое.
Анна, ласково улыбаясь, смотрела на свое дите. И Клавенька была рядом. Дело в том, что решили справлять появление куро-трупа. Уже всем стало ясно, что сам Андрей Никитич давно помер, но однако ж, вместо того чтобы умереть нормально, произошел в новое существо – куро-труп. Вот рождение этого нового существа и собрались отметить в Лебедином. Сам виновник торжества выглядел неестественно-оголтело и возбужденно, но очень мертвенно, из последних сил, точно он метался в шагающем гробе.
Полагая, видимо, что он на том свете, куро-труп стал хулиганить, точно после смерти все дозволено. Он, забыв обо всем, дергал деда Колю за член, называл его «своим покойничком» и показывал язык воробьям.
– Где смерть, там и правда, – умилялась, глядя на него, Клавуша.
Посреди двора разостлали черное одеяло; около него и намеревались отмечать. Собрались все, даже девочка Мила. Только Петенька хотел спать; он бродил по углам двора и, прижимая руки к груди, пел: «Баю-баюшки баю…» Но в руках у него ничего не было; и Ремин ужаснулся, догадавшись, что Петенька убаюкивает самого себя… Баю-баюшки-баю… Под конец Петенька свернулся под забором и, мурлыча самому себе колыбельную песенку, задремал.
Куро-труп сидел в сарае, противоестественно, из щели, вглядываясь в празднество.
После обильной еды многих потянуло на томность, на воспоминания. Помянули мужа упокойницы Лидоньки незабвенного Пашу Краснорукова, в свое время из ненависти к детям ошпаривавшего себе член. Оказалось, что теперь он отбывает свой долгий срок в лагере, но весьма там прижился.
– Для него главное, чтоб детей не было, – вставила, вздохнув, Клавуша. – А какие в лагере дети… Так он, говорят, Паша, там вне себя от радости… Нигде его таким счастливым не видали.
– С голым членом на столбы лезет, – угрюмо поправил дед Коля. – Но зато взаправду счастливый… Ни одно дитя еще там не встретил… И вообще здесь, говорит, в лагере красивше, чем на воле…
Тьма нарастала. Глаз куро-трупа стал еще противоестественней и невидимо блистал из щели.
Неожиданно, во весь рост поднялась Клавуша. Ее медвежье-полная фигура выросла над всеми, разбросанными по траве; в руке она держала стакан водки.
– А ну-кась, – проговорила она грудным голосом, – хватит за Андрея Никитича покойника пить… Выпьем за тех… в кого мы обратимся!
Все сразу взвинтились и вскочили, как ужаленные.
– Ишь, испугались, – утробно охнула Клавуша и, отойдя чуть в сторону, стряхнула мокрые волосы.
– Клавенька, не буду, не буду! – завизжал садистик Игорек…
Дед Коля вскочил и побежал за топором. Девочка Мила ничего не понимала.
А Падов и Ремин, покатываясь, подхватывали с восторгом:
– Своя, своя…
Аннушка тут как тут оказалась рядом с Клавушей.
– Ну что ж… я за свое будущее воплощение выпью, – нежно извиваясь, пробормотала она. – За змею нездешнюю!! – и она всей силой прижалась к потному и рыхлому брюху Клавы.
Игорек пополз к ногам Клавуши и поднял вверх свое ангельское, белокурое личико: «за мошку, за мошку – выпью!» – прошамкал он, и глаза его почернели.
Клавуша стояла величественно, как некая потусторонняя Клеопатра, и только не хватало, чтоб Игорек целовал ее пальцы.
Вдруг раздался странный невероятный вопль и треск ломающихся досок. Из сарая выскочил куро-труп. В руках его было огромное полено.
– Загоню, загоню! – завопил он, но так нелепо, что все не знали, куда посторониться.
Игорек юркнул за бревно.
Между тем на лице куро-трупа было написано явное и страшное страдание, но чувствовалось, что причина его совершенно непонятна для него самого. Казалось, что он совсем оторван от тех, кого хотел разогнать; может быть, он имел в виду каких-то иных существ, которые виделись ему в собравшихся на празднество.
Бросив полено, выпятив глаза, с какими-то застывшими полуслезами, он размахивал руками, стоя на месте.
Это страдание, обрученное с полным отчуждением от внешней причины, вызвавшей мучения, производило особенно жуткое и разрушающее впечатление.
Все старались не смотреть на эту картину.
Клавуша, вильнув задом, ушла за угол дома, где стояла бочка с водой. Вскоре все оказались как-то в стороне, и куро-труп внезапно умолк, точно в его уме захлопнулась какая-то дверца.
Мертвая тишина, прерываемая робким щебетом птиц, царила в наступающей тьме.
Лишь дед Коля, который сбег еще до того как из сарая выскочил куро-труп, одиноко плясал перед окном своей комнаты.
И когда все расходились по норам спать, один только садистик Игорек робко остановил на тропинке Клаву.
Желая излить душу, он как бы прильнул к пространству около ее тела и тихо прошептал:
– Ведь правда, самая ненавистная в жизни вещь – это счастье?.. Люди должны объявить поход против счастья… И тогда они увидят новые миры…
Игорек поднял руку вверх, пред добродушною Клавой, померк бледным лицом и исчез в сторону. «Ушел мраковать», – подумала Клава.
VIIПадов и Аннуля между тем прошли в одну комнату и заперлись там. Попив чайку, они разговорились о потустороннем. Аннушка вообще страсть как любила отдаваться мужчинам, которые отличались наиболее бредовыми представлениями о загробном мире. А в этом отношении Падов мог дать кому угодно сто очков вперед.
Но сейчас у него было темно-слабое, нежное состояние, вызванное желанием чуть утихомириться после празднества в Лебедином. И он поначалу погрузил Аннушку в уютный, мягонький мирок чисто инфантильных представлений о будущей жизни. Размягченный, в ночном белье, Падов в покое бродил по комнате и приговаривал:
– Я чайку попью, попью, Аннуля, а потом опять вспомню, что могу помереть… И не пойму, не то сладко становится от этого, не то чересчур страшно…
В этот момент самое время было отдаваться, и Падов с Аннушкой чуть истерично, но и с умилением соединились…
Отряхнувшись, а потом и опомнившись, Аннуля грезила в кроватке, рядом с Падовым.
Но теперь им почему-то хотелось безумства, сумасшествия, словно мысли отрывались от блаженности тела.
Тон задавал Толя.
Он особенно упирал теперь на то, что-де в ином мире все будет не так, как в учениях о нем. Что, дескать, и инстинктивное ясновидение, и посвящение, и учения обнимают, мол, только жалкую часть потустороннего, причем и эта часть – вероятнее всего – неверно интерпретирована. Это неизбежно, подхихикивал Падов, ведь если люди так часто неправильно понимают этот мир, то что же говорить о других.
Анна подвывала от восторга. Такой взгляд помогал им напускать на потустороннее еще больше туману и кошмаров, чем в любом самом мрачном и жестоко отчужденном учении.
В таком состоянии они, прижимаясь друг к другу, поглаживая нежные тельца, в полусладости, очень любили копаться в различных детальках потусторонних миров, развивая отдельные, известные положения или переделывая все по собственной интуиции.
Толя, когда входил в экстаз, даже чуть подпрыгивал, мысленно совокупляясь с Высшими Иерархиями. А Аннуля кричала: «Безумие, безумие!»
Великолепен же был их вид, в кроватке, когда они высовывали из-под одеяла свои голенькие тела и кричали друг на друга: «Безумие, безумие!»
Успокоившись, они опять разжигали воображение, пытаясь представить себе, как они будут выглядеть «там», о чем будут думать, чем станет их сознание; яростно уклоняясь от «простого» понимания послесмертной жизни, как более или менее адекватного продолжения (в другой форме) этой, они представляли себя в конце концов превращенными в некие нечеловеческие существа, живущие черт знает где и черт знает как, и уже потерявшими всякую связь с теперешним. Они пытались проникнуть, как «они» – теперешние, настоящие – могут быть совсем другими, как «их» не будет и в то же время «они будут».
Потом, мысленно возвращаясь к земле, подвизгивая, в потаенном страхе целуя друг друга, они пытались предвосхитить все нюансы своего состояния при переходе из этого мира…
Аннуля представляла себя в том виде, когда впервые после смерти к человеку возвращается сознание и он, незримый для живых, еще может видеть этот мир, но в качестве мира «теней»; ей почему-то до спазмы становилось жалко свой труп, который она могла бы увидеть с того света.
«Я украшу его загробными цветами; или сяду на нем верхом, невидимо; вперед, вперед… в просторы», – бормотала она в Толино ушко.
Толя задергался и прошипел, что его давняя мечта – совокупиться с собственным трупом; и что он уже сейчас чувствует теплый холод этого акта.
После этого они, Падов и Анна, соединились еще несколько раз.
…А наутро, в глубоких и мягких лучах вялого и негреющего солнца, они выглядели устало и упадочно.
Игорек, желая угодить своим мэтрам, подавал им кофе в постель.
А Толя, любивший после безумств и взлетов уходить в тягучий и беспросветный маразм, лежал и, не вынимая члена из тела Анны, дремал, попивая кофеек…
Весь день прошел в какой-то тягучести.
А под вечер Падова стали преследовать видения. Да и сам дом Сонновых, с его закутками, шизофренными углами и трансцендентно-помойными занырами, способствовал появлению «невидимых». К тому же все (под вечер!) собрались почему-то по грибы в лесок, и Падов остался один в этом доме.
Сначала ему казалось, что из какого-нибудь угла кто-нибудь внезапно выйдет, но не человек, а скорее «нечто» или в лучшем случае выходец с того света.
Но он постарался связать пространство со своим сознанием.
И ему стало видеться что-то совсем нечеловеческое, но что зато втайне предчувствовалось им в душе.
Сначала смутно проявилось какое-то подполье потусторонности; потом стали выявляться и существа, обитатели…
Первым появился тип, чье существование заключалось в том, что ему один раз в миллион лет разрешалось пискнуть, причем не более минуты; все же остальное время, промежду этих писков, он был в полном небытии. Этот замороченный толстячок как раз и появился на свою единственную минуту; несмотря на это, вел он себя необычайно многозначительно и даже напыщенно; видно было, что он очень крепко держится за свое право пискнуть и крайне дорожит этим…
И другие видения, одно страннее другого, вереницей проходили перед ним.
Под конец Толе показалось, что он видит «существо» из того мира, который «лежит» за конечным миром всех религий и оккультно-мистических открытий.
Взвизгнув «хватит!», Толя вскочил с постели и закричал. Все рассыпалось по тайным уголкам реальности. Но извне доносился страшный, громовой стук в ворота.
Взвинченный таким резким переходом из скрытого мира в видимый, Толя, пошатываясь, пошел на стук.
Он открыл ворота сонновского дома и увидел пьяного мужичка, а за ним… робко улыбающегося… Евгения Извицкого.
– Вот это встреча!.. Как ты нашел Лебединое?! – вскричал Падов, обняв друга.
Мужичок, поцеловавшись с деревом, исчез.
– Да Аннуля втайне письмишко тут написала, – сконфуженно проговорил Извицкий, метая острые взгляды на Падова.
Но Падов, не давая ему опомниться, проводил в комнаты, показывая углы, где только что ему виделись «невидимые».
Извицкий жался в себя; это был чуть толстенький человек с взлохмаченной головою, примерно одного возраста с Падовым; глаза его горели каким-то внутренним, мистическим и вместе с тем сексуальным огнем; кожа лица была нежная, но не женственно, а как-то по-своему, особенно.
Вместе с Падовым и Реминым он образовывал довольно своеобразный треугольник. Говорили, что, как и Ремин, он был одно время в некоторой связи с религией Я.
Вскоре вернулись и путешественники за грибами, кроме Анны: она уехала на день в Москву. Зажглись огни в сонновско-фомичевском доме: словно духи задвигались во тьме.
Девочка Мила спрятала свои грибы в ночной горшок; мутно-скрытые глаза Петеньки смотрели на Извицкого из щели. Даже куро-труп принес один гриб. А Извицкому было нехорошо: он рвался к себе, в душу, во внутрь, или на худой конец к общению с Падовым и Реминым. Даже Клавуша не очень удивила его.
«Лучше своя вошь, чем Дары свыше», – все время бормотал он про себя и отходил в сторону.
– Ускользает, ускользает Женичка от нас, – приговаривал Ремин.
Долгое время все как-то не могли найти контакт и шатались из стороны в сторону, точно неприкаянные.
Гена в уголке «раздавил» поэтическую четвертинку. Потом к нему присел, чего-то нашептав, Толя.
Между прочим, про Извицкого в Москве ходил какой-то изуверский, со стонами из-под домов слух. Что, мол, Женя замешан в некой страшной истории, дикой и исступленной, связанной, может быть, с культом дьявола. Другие, однако, считали такое объяснение профаническим и говорили об отрицательном, чудовищном пути к Богу, в том числе через богохульство.
А одной старушонке, соседке Жени, привиделось после разговора с ним явление, по ее словам, ангела, и что ангел-де подмигнул ей и сказал, что спасения не будет.
Слухи, с обязательными русско-юродивыми оттенками, обрастали нелепо-метафизическим комом и уже твердили, что полудохлая, больная кошка, которую не раз замечали около Жени, – воплотившийся дух маркиза де Сада. Кто-то, из совсем юных, начал уже ей поклоняться и пал перед ней на колени.
Воображение взвинчивалось. Дело еще усугублялось тем, что, по слухам, – в «истории» участвовала странная девочка лет одиннадцати-двенадцати, которую Извицкий нередко приголубливал и выделял.
Вспоминали, что Извицкий не раз говорил про эту девочку, что она «наполнена светом».
И взаправду, в некотором роде девочка действительно светилась: ее бледное лицо с чуть выпяченной челюстью и гнилыми зубами прямо-таки озарялось каким-то молниеносным, подпрыгивающим вдохновением, а глаза в ощеренном, одухотворенном личике точно вылезали из орбит, когда она радовалась Невидимому и своим мыслям.
Говорили, что духовно она постоянно вращается вокруг себя и ей многое дано…
Так или иначе, точно или даже в близком приближении эту историю никто не знал.
Возможно, все происходило не так или с другим подтекстом. Но юродивенькие, влюбленные в себя слушки росли, докатываясь до самых потаенных, подвально-метафизических уголков Москвы.
Такова была молва об Извицком.
Наконец, сбросив бред неловкости, друзья – Ремин, Извицкий и Падов – собрались, когда все остальные сонновские обитатели уснули, на втором этаже, в глухой комнатушке, с полузабитым окном.
Только свеча освещала их лица.
Извицкий по отношению к друзьям внешне был мягок и нежен. Падов хохотал, глядя на пятна по стенам.
Ремин, прикорнув в кресле, покачивался в такт своим мыслям. Закатанная, подпольная бутылка водки зеленела в углу.
Разговор – вернее, прикосновение душ – переходил от провалов в их бредовых, разросшихся отношениях… к мистицизму.
Воздух чернел то от взрывающихся, то от сгнивающих мыслей.
Извицкий, просмаковав загробное, упирал теперь на смех Абсолюта; что-де невиданное это качество, если у Абсолюта есть свой смех. Дик-де он (смех) и непостижим, потому что никому не противопоставлен, и причина его, разумеется, не в разладе с действительностью, а в для нас неизвестном.
Истерический смешок прошел по горлу Падова: ему показалось, что он видит концы этого смеха.
Все сидели в отдалении друг от друга по полуразвалившимся креслам, но у каждого – для тишины – под рукой было по стакану водки.
Масла в огонь подлил Ремин, который из своего угла начал что-то смердеть о жизни Высших Иерархий; что-де по сравнению с этим любые духовные человеческие достижения как крысиный писк по сравнению с Достоевским. И что-де неплохо бы хоть что-нибудь оттуда урвать или хотя бы отдаленно представить, пытаясь сделать скачок от Духа… туда… в неизвестный план.
На Падова особенно подействовало это напоминание; «что нам, курям, доступно!» – слезливо пробормотал он.
Но потом озлобился.
И хотя Ремин еще что-то нес о необходимости вырваться в зачеловеческие формы «сознания», мысль о дистанции пред Неведомым задела и Падова, и Извицкого. Она даже повергла их в какой-то логически-утробный негативизм.
– А может быть, все Абсолютное движется только в нас… Даже сейчас, – вдруг захихикал из угла Извицкий.
Он поперхнулся; всем действительно хотелось именно «сейчас» воплощать абсолютное, чтоб и теперь, в сегодняшнем облике, вмещать его, иначе слишком обесценивалось «теперешнее» состояние и «теперешние» мысли. От нетерпеливой любви к себе Падов даже дрожал. А Извицкий недаром еще раньше искал какой-то обратный, черный ход в мире, который вел бы в высшее, минуя все иерархические ступени.
Наконец после угрюмого молчания Извицкий сразу заговорил о парадоксальном пути.