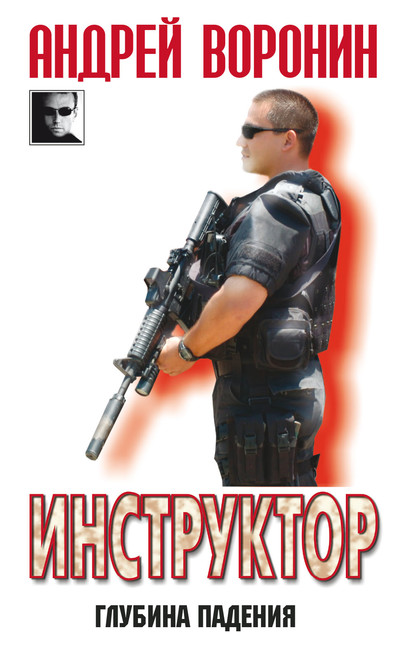Полная версия
Инструктор. Снова в деле
– В 1910 году, 7 ноября по старому стилю, Лев Николаевич Толстой умер на станции Астапово, находившейся на Рязано-Уральской ветке. Его смерть взволновала общество. Начались сходки молодежи против смертной казни. 9 и 10 ноября Хамовнический переулок был оцеплен полицейскими нарядами и никого туда не пропускали. В эти дни размышляли над тем, как увековечить память писателя. Гласный Московской городской думы Шамин предложил назвать Хамовнический или один из примыкающих к нему переулков именем Льва Николаевича Толстого, открыть мужское и женское училища его имени и устроить в Москве литературный музей. Старший сын Толстого Сергей Львович был готов уступить городу Хамовническое имение, предоставляя городскому управлению определить его стоимость. 9 сентября 1911 года состоялось историческое заседание Московской городской думы, и было принято решение о покупке этой усадьбы. Из 76 человек проголосовали против только 11. Надо отдать должное городской управе: она приняла все меры к охране усадьбы. С декабря 1911 года на усадьбе проживали пять служителей для наблюдения за домом, были заведены пожарочасы и устроены сигнальные звонки. Доступ во двор посторонним запрещался. Требовалось специальное разрешение управы. В феврале 1912 года было решено устроить музей в Хамовниках. Также было принято решение снести старый, ветхий дом, а на его месте возвести новое каменное здание. Нетронутыми планировалось оставить кабинет и рабочую-уборную комнату писателя, в остальных помещениях предполагали развернуть коллекции музея и открыть библиотеку-читальню. 23 апреля 1912 года в усадьбе состоялся прощальный ужин семьи Толстых, и с этого момента началась новая веха в истории «Хамовников».
– А что с перестройкой? Все разрушили и по новой построили, да? – уточнил парень с таким выражением лица, словно раздумывал, а не взяться ли самому за этот заманчивый проект.
– Вы архитектор? – в ответ дружелюбно улыбнулся Тихий.
– Как вы узнали? – парень оторопел от удивления.
– Интуиция… – словно и сам не понимая, как догадался, многозначительно ответил Тихий. – Нет. Тогда дом от перестройки спасла Первая мировая война. Все ремонты были позабыты. В усадьбе проживал дворник Зайцев со своей семьей. В большом сарае были устроены склады школьной мебели и учебных пособий и даже склад бочек с цементом. Сам дом пустовал. Зайцев обосновался в сторожке. В кухне жил дворник Иван, а во флигеле столяр Кузьмичев с семьей. Двор и дорожки поддерживались в прежнем состоянии: их очищали от травы и посыпали песком. Из колодца в саду продолжали брать воду. После Октябрьской революции в доме был организован детский сад. Нижний этаж дома был занят столами, скамьями, шкафами, а верхний оставался закрытым для доступа. Детский сад просуществовал несколько месяцев, и больше дом никто не занимал. Может быть, кто-нибудь догадывается почему?
Тихий забегал глазами по лицам, желая отыскать на них хоть какое-то выражение задумчивости. Это был еще один из его излюбленных тактических приемов: не рассказывать все полностью, а попытаться разбудить мышление слушателей. И если кто-то отвечал верно, Тихий искренне радовался, как будто он получил Нобелевскую премию за какое-нибудь важное открытие. Но лица были сонными, на некоторых и вовсе едва читался интеллект. Кто-то зевал, кто-то безостановочно болтал с самого начала экскурсии, кто-то, кажется, только и искал повода улизнуть.
«Наверно, я задал слишком сложный вопрос», – подумал Тихий, как думал всякий раз, не желая расстраиваться и признаваться себе в том, что затея не удалась, а с треском провалилась, потому что современный школьник скорее готов поразить вас обилием нецензурной лексики, набором хамских привычек, чем щегольнуть знанием истории и ее персоналий, тех людей, благодаря или вопреки которым наша современность такова, какова есть.
– Все дело в том, что заведующим Толстовским музеем была получена «Охранная грамота» для дома от Народного комиссариата по просвещению. Что же касается переустройства музея, молодой человек… – Тихий отыскал глазами молодого человека, словно желая убедиться, что тот еще не удрал на свежий воздух, как уже успели сделать некоторые, чтобы перекурить на крыльце усадьбы и, поплевав под ноги, выразить свое почтение к «Хамовникам» в частности и ко всем музеям и культуре в общем. Но молодой человек никуда не удрал, а смотрел на Тихого с любопытством, так что тот даже застыдился своих мыслей. – Особой комиссией по делам музеев в январе 1920 года усадьба Толстого была признана непригодной для размещения здесь музея. По распоряжению Ленина были составлены планы дома, сада и надворных построек. На планах все было отмечено так, как и при жизни Льва Николаевича. Осенью того же года вокруг усадьбы был воздвигнут цементный забор. Отремонтировали снаружи и дом. А в 1921 году начали реставрировать и сами комнаты. Реставрация была проведена при участии Татьяны Львовны Толстой…
Тихий был словно воплощением истории «Хамовников», иногда он и сам себе поражался, насколько быстро и уверенно отвечает на вопросы, не успевая даже призадуматься. Экскурсанты удивлялись не меньше. Тихий походил на любознательного школьника, помимо одного урока выучившего наперед целую школьную программу. Он не путался в датах, цифрах и именах, вспоминал интересные подробности, и можно было подумать, что он сам жил здесь вместе с Толстыми в то время, а теперь просто пересказывает то, что происходило при его участии и перед его глазами. Но все было проще. Он просто любил писателя Толстого и все, что с ним связано. Будь он всего лишь увлечен, зашел бы в библиотеку, полистал общедоступные книги, почитал, удовлетворил свой интерес и поехал бы, как жена советовала, на рынок джинсами из Китая или из Турции торговать. Но в том-то и загвоздка, что не хотел Тихий торговать и не мог удовлетворить свой интерес общедоступными книгами. Постоянно выискивая что-то новое, зайдет, бывало, в библиотеку и примется за чтение какой-нибудь редкой книги.
Тихий набрал побольше воздуха в легкие и заговорил с тревогой в голосе, словно предупреждал всех о том, что в ближайшем будущем это событие может повториться.
– В 12 часов дня 28 января 1927 года в музей-усадьбу, в котором вы имеете честь находиться, вошел неизвестный гражданин, который быстро взбежал по парадной лестнице на второй этаж, пробежал зал с длинным полутемным коридором и очутился в кабинете Толстого. Там он вытащил из кармана бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью…
У некоторых особо впечатлительных слушателей загорелись глаза, словно они и сами были бы не прочь повторить аналогичный «подвиг», только бы выпустили их отсюда поскорей.
– Сотрудница музея хватала его за руки, пыталась оттащить от стола, но незнакомец успел чиркнуть спичкой, и на столе вспыхнуло пламя. Тогда она бросилась вниз поднимать тревогу, но поджигатель догнал ее и, свалив ударом в спину, выбежал во двор, а затем и на улицу. К счастью, пожар, не успев разгореться, был потушен. Сгорело несколько старых газет и часть рукописи Толстого «Рабство нашего времени». Поджигатель оказался душевнобольным, еще до «Хамовников» он пытался поджечь несколько московских музеев. К счастью, он так и не сумел повторить подвиг Герострата…
За рабочий день Тихий порядком устал. Наспех пообедав взятым из дома бутербродом и запив его горячим чаем из термоса, он, не успев толком передохнуть, вновь явился к экскурсантам. Множество новых лиц. Даже группа туристов из Великобритании. Тихому стало как-то неудобно, что за все это время он так и не выучил английский язык, который бы ему сейчас очень пригодился. А как было бы здорово, если бы Тихий с оксфордским произношением рассказывал о своем любимом писателе чопорным англичанам, выражая все свои чувства и мысли на их языке, да так, чтобы они смогли почувствовать и понять то же, что и он. Но пришлось говорить с переводчиком, что несколько смазало общую картину. Тихий нервничал, потому что не знал, как переводчик переведет то или иное слово. Он смотрел на переводчика так пристально, словно требовал от него отчета за каждое использованное слово. Переводчик вел себя невозмутимо и говорил с такой небрежностью, словно речь шла об обеденном меню, а не о жизни Толстого. По крайней мере, именно так воспринимал его Тихий, он даже раз не удержался и попросил сказать переводчика по-другому. Тот удивленно пожал плечами, но все-таки исполнил просьбу, однако Тихий все равно мучился, не в силах прочесть на невозмутимых лицах англичан, пришлась ли его фраза им по душе. Он всеми силами старался говорить так, чтобы его речь была доступной, но в то же время не примитивной и упрощенной. Тихий хотел привлечь внимание экскурсантов, быть с ними искренним и рассказывать так, будто бы все они пришли в гости к лучшему другу, который недавно вернулся с дивных островов и знает много чудесных историй, недоступных самому шустрому журналисту.
Кроме англичан приезжали китайцы. Тихий смотрел на них с каким-то паническим страхом. Они казались ему еще дальше англичан, и он боялся, что переводчик исказит смысл его слов, и китайцы его совсем не поймут. От этого на его бледном лбу выступил пот, и он осторожно провел по лбу платком и машинально поправил узел галстука. Галстук, между прочим, чем ближе подходил рабочий день к завершению, тем больше напоминал петлю-удавку. Но Тихий сносил все неудобства своего костюма со стоическим спокойствием; по крайней мере, он знал, ради чего все это делает, и вовсе не считал это какой-то трудностью или неприятностью. Вот уйдут последние посетители, и он расслабит галстук, позволит расстегнуть себе одну пуговицу рубашки и поговорит с вечно зевающим вахтером, делясь впечатлениями прошедшего дня. Походит еще сам по музею, проверяя все ли на месте, не испортили ли чего, не натоптали ли, не забыли ли каких-нибудь вещей, не оставили ли мусора, и, только проверив весь музей и удостоверившись, что все в полном порядке, уедет к себе домой, на окраину Москвы.
Закончив работать, наговорившись до хрипоты, до того состояния, когда больше всего хочется молчать, Тихий ощутил камнем навалившуюся усталость. Тело словно потяжелело в несколько раз, а на спину повесили пудовые мешки. Ноги подгибались, руки подрагивали так, что, держа стакан, он едва не расплескал чай. Целый день его не отпускало напряжение, но он, увлеченный работой, не чувствовал его так сильно, как сейчас, когда вокруг тишина и не слышно ничьих голосов.
Жил Тихий далековато, на улице Джанкойской, и потому дорога предстояла пренеприятная по многим причинам. Ясное дело, вначале на метро, в битком набитом вагоне, потом ждать автобуса. Дорога отнимала столько сил у Тихого, сколько не отнимал весь рабочий день. Он возненавидел эту толчею и грохот прибывающего поезда, долгое ожидание автобуса и потому, чтобы хоть как-то скрасить малоприятный и долгий путь домой, когда тебя толкают со всех сторон и стараются отдавить ноги, чтобы ты уступил местечко получше, он читал книги. Тихий любил читать. Читал взахлеб. Дома времени не оставалось, конечно: только поужинать, помыться и лечь спать, с тем чтобы завтра ехать в «Хамовники», а вот дорога предоставляла время для чтения.
Часто бывало, что после рабочего дня Тихий не находил сил ехать домой. Если бы не жена, которая, как он надеялся, обязательно вернется, то Тихий оставался бы ночевать в музее. Но привычка часто оказывается сильнее натуры, иногда от нее невозможно отказаться, и Тихий шел к метро, размахивая небольшим портфельчиком, которому уже было лет тридцать. Для вещи срок солидный. На улице попадались прохожие, уставший Тихий обходил их, словно фонарные столбы, ни единой черточкой лица не показывая, что он их заметил. Шел среди людей, как будто среди обезлюдевшего города, и думал о своем. И о молодости, и о недавнем прошлом, только вот о будущем думать совсем не хотел. Не радовало его это будущее, а все равно понимал Тихий, что настанет этот момент, когда будущее станет настоящим. Наступит и тот день, когда скажут ему: «Ну что, Тихий, отработал ты уже свое. Пора дорогу молодым давать». И приведут какого-нибудь молодого, который сам в этом музее ни разу не был, «Войну и мир» так и не осилил, прочитав в кратком содержании. Моментами Тихий, конечно, утрировал, преувеличивая свои страхи в разы, но тем не менее его опасения были небезосновательными. Наверно во всей Москве не могло найтись человека, так сильного радеющего за свое дело, как Тихий. Он уже не раз задумывался о своей смене, о том, кто бы мог достойно занять его место, и мрачнел оттого, что не видел подходящей кандидатуры, а сталкивался с каким-то равнодушием, позерством и насмешкой, как будто люди не в «Хамовники» пришли, а так, забрели по дороге в какой-нибудь кабак и смеются, чем, мол, нас удивить хотите, мы и так все знаем. Заходя в метро, Тихий словно просыпался от своих мыслей, точнее, заставлял себя проснуться. Было раз дело, так задумался, что только дома заметил пропажу кошелька. Долго тогда перед женой извинялся за свою рассеянность и на себя рассердился. Потому теперь был в реальности, вливался в людские потоки, спешащие к эскалатору. Занял свое место и рассеянно глядел, как вниз опускается, словно в какое-то подземелье, из которого никогда ему больше не вернуться. Там, среди толчеи и сутолоки, бежал на автомате, если слышался вдалеке грохот прибывающего поезда.
Сейчас ждать не пришлось. Тихий побежал и едва втиснулся в вагон. Слышались возмущенные крики, а кое-кто, пользуясь правом сильного, пробивался, расталкивая всех локтями. Тихий был не из таких людей: не то чтобы боялся действовать подобным образом, нет, просто не хотел занимать свое место за счет унижения других, потому иногда и ждал следующего поезда. Но сзади надавили как следует, и Тихий помимо своей воли попал какой-то женщине в бок локтем. Она злобно посмотрела на него, взгляд ее был настолько красноречив, что Тихий не сомневался: будь у нее возможность, она подняла бы руку и отвесила ему оплеуху.
– Извините, – пробормотал он так тихо, что и сам еле-еле расслышал свой голос.
– Хам! – резко ответила женщина.
Тихий пошатнулся как от удара и пристыженно молчал. Выйдя на Скобелевской, пошел на остановку автобуса, плотнее запахнув куртку. В конце октября в Москве был такой жуткий холод, что казалось, уже завтра наступит зима. Еще недавно прошел дождь. Дул холодный порывистый ветер, такой сильный, что, идя против него, приходилось прятать лицо.
– Папаша, дай закурить, – обратились к Тихому на остановке какие-то парни в спортивных костюмах, с угрюмыми лицами.
– Не курю, ребята, – вежливо ответил он, как привык отвечать всякий раз, даже на явные подначки и намеки на стычку. Но ребята попались нормальные, они и не думали цепляться к Тихому. Что возьмешь с него? Старую поношенную куртку, легкую потрепанную кепочку черного цвета да невзрачный портфель?
– Правильно, отец. Курить – здоровью вредить, – изрек один из них, и вся троица разразилась хриплым смехом.
Подъехал автобус, и Тихий занял место у окна. В автобусе, по обыкновению, на него наваливалась дремота, как утром, так и вечером. Он тщетно боролся с ней и на какое-то время проваливался в сон, затем просыпался и начинал ошарашенно озираться по сторонам, не проехал ли нужной остановки. Так и сейчас, волей-неволей, рассеянно глядя в окно, он засыпал, да и не мог не засыпать, если приходилось подниматься в пять часов утра, когда, наверное, все еще спят за исключением таксистов, водителей автобусов и троллейбусов, дворников да молодежи, любящей бессонные ночи и шумные компании. В автобусе сидели такие же уставшие люди, как и он. Кто-то пошатывался из стороны в сторону, кто-то равнодушно глядел перед собой, кто-то сидел с таким отстраненным видом, как будто находился не в автобусе, а в каком-то другом месте, может быть на курорте, на котором ему никогда не побывать. Сзади Тихого сидела парочка влюбленных, которая громко смеялась. Старый двигатель тарахтел, словно на последнем издыхании, и в салоне пахло соляркой. По стеклу расползались капли вновь пошедшего дождя. Автобус поехал темными улицами. Тихий дремал, прислонившись щекой к стеклу. Автобус встряхивало на каждой колдобине, дорога была такой паршивой, словно здесь асфальт не меняли с 50-х годов прошлого века. Впрочем, Тихий привык к такой езде, да и не был он автолюбителем, чтобы мог возмущаться и писать жалобы. Ездил себе на автобусе и не злился, не в его силах дорогу было поменять.
По дороге Тихий вспоминал, чем же может порадовать его холодильник. С недавних пор, как ушла жена (а это печальное событие произошло чуть больше двух недель назад), Тихий начал жить в соответствии с холостяцкими традициями. Только, несмотря на свой возраст, он был неопытным холостяком, и человеку, долгое время прожившему с семьей, трудно жить в одиночестве. За всей квартирой приходилось следить самому, вытирать пыль, ходить в магазин, готовить, стирать, – Тихий со своей работой и выходными, которые он проводил в библиотеке, не мог с этим управиться. Едва справлялся с тем, чтобы приготовить себе нехитрый ужин, какую-нибудь кашу или вермишель, ну или мог сварить кусок мяса, только в последнее время мясо он ел нечасто – инфляции, скачки цен, а зарплата оставалась практически на том же уровне. Жена злилась на него, что не ищет лучшей доли, а он думал: «Бог с ним, с мясом-то, и так проживу». Мучительные размышления Тихого окончились тем, что он решил, что приготовит обыкновенную яичницу: и хлопот мало, и, может быть, прибраться успеет, простирнуть кое-что из одежды. С этими мыслями он и вышел на своей остановке, дошел почти до подъезда и вдруг вспомнил, что дома нет яиц и в магазине последний раз он был несколько дней назад. Ничего не оставалось делать, как развернуться и, подставив лицо неприветливому ветру, побрести к магазину. Тихий украдкой достал деньги из внутреннего кармана куртки и при неверном свете фонаря убедился, что денег хватит. А то раз было, совсем замечтался, забыл о деньгах, а продуктов набрал, как на зимовку, стал расплачиваться на кассе, а денег нет. С тех пор Тихий всегда пересчитывал деньги, чтобы не испытывать конфуза.
У самого крыльца магазина околачивались пьяницы в надежде сообразить с компаньонами на бутылку. Выпить не вопрос, в ближайшей подворотне или подъезде теплое местечко всегда найдется. Иногда местные алкаши обращались к Тихому и просили денег на выпивку. Он внимательно глядел на испитые пропащие лица просителей и чувствовал что-то похожее на сочувствие. Некоторые заметили, что, когда ни попросишь, Тихий всегда дает деньги, и начали злоупотреблять его сочувствием. Тогда Тихий принял контрмеры и стал появляться здесь как можно реже, однако в деньгах не отказывал. «Спившиеся, но все равно люди-то. Не по себе судить надо, а по другим людям», – любил повторять Тихий себе в назидание.
Только на этот раз знакомых пьяниц не было и денег у него никто не просил. Тихий не расстроился и не обрадовался, а воспринял это как должное. В магазине прошелся между рядами, прицениваясь, купил яиц, хлеба, два пакета молока и кефира, некоторое время с задумчивостью повертел в руках упаковку с сыром, да отказался, решив сделать назавтра бутерброды с колбасой.
Шагал из магазина медленно, еле ноги волоча. Долгий и утомительный денек выдался, все-таки с пяти утра на ногах. У подъезда на скамейке собралась местная шпана и распивала водку. Тихий минул их, словно призрак, и скрылся в теплом и темном подъезде. Воздух был затхлый, пропитанный запахом мочи и еще невесть чем.
Тихий, не изменяя своей привычке, сунул мизинец в отверстие почтового ящика, проверяя, нет ли свежей газеты. Но вместо нее палец наткнулся на огрызок яблока, и дверца со скрипом открылась. Сорванный замок бессильно болтался на одном болтике. «Ладно, завтра отремонтирую, – решил Тихий, – и уточню на почте, присылали ли мне новый номер газеты». Стены подъезда были изрисованы черными каракулями неудавшихся художников, которых великое множество в спальных районах, странно лишь то, что их творчество так одинаково и примитивно. Вдавил деформировавшуюся кнопку девятого этажа, и старый лифт лязгнул дверями. В лифте было наплевано, под ногами шелуха от семечек и окурки. «Неужели по-человечески нельзя? – думал он. – Поплевал шелуху в кулек из газеты, сигарету выкурил на балконе любого из этажей, а бычок затушил и выбросил в мусоропровод. И зачем сплевывать на пол?» Тихий каждый раз расстраивался при созерцании такой неприглядной картины. На своем этаже при свете одной-единственной тусклой лампочки, которую любили выкручивать и разбивать чуть ли не каждую неделю, долго копался в портфельчике в поисках ключей, пока не хлопнул себя по лбу и не достал их из заднего кармана брюк, догадавшись, отчего так было неудобно ехать в автобусе.
«Ну вот и пришел», – с каким-то безразличием подумал Тихий и ступил на порог квартиры. Собрался зажечь свет, рукой ища выключатель. Но в следующий момент дверь за ним аккуратно закрыли, руку сильно сжали, кто-то сзади захватил в стальные тиски, а на рот наклеили клейкую ленту. Свет так и не зажгли. Тихий дернулся несколько раз, пытаясь вырваться, но не выходило. Коридорчик был тесный. Узкое пространство и бежать некуда.
– В комнату его…
– А что с сумкой?
– На кухню…
Тихого поволокли двое детин в комнату, усадили на стул к столу, дали ручку и бумагу.
– А теперь слушай сюда. – Тихий не видел, кто с ним разговаривал, оттого что тот подошел сзади и прижал к его кадыку лезвие ножа. Дернись он чуть-чуть – и завтра не поедет на работу, а останется здесь, за столом, с поникшей, словно от усталости, головой или, быть может, рухнет на пол и кровь начнет растекаться темной лужей, а когда проступит на потолке соседей, те вызовут ментов, но будет уже поздно. – Бери ручку и пиши. Пиши, что говорят. И помни: дернешься – концы отдашь.
Тихий испуганно замычал. Ручка дрожала в руках, словно он был алкашом со стажем.
– Пиши под диктовку, толстовец, – жесткий голос продолжал отдавать команды.
Тихий, словно под гипнозом, делал все, что говорят, ничего не понимая: «Заранее прошу у вас прощения. У тебя, моя женушка, и у вас, мои дети. Не вспоминайте плохое, а помните только хорошее. Вы ни в чем не виноваты. Никто ни в чем не виноват. Я устал жить дальше. И вы здесь ни при чем. Прощайте!»
Тихий выводил слова, как будто чужой рукой, и совсем не понимал их смысла, не осознавал происходящего, а, словно перепуганный школьник-двоечник, спешно писал диктант неумелым почерком. Холодное лезвие едва касалось горла, как будто щекотало его. Окна в комнате были зашторены. Тихий писал при свете яркого карманного фонарика. Написав, отложил ручку, чувствуя, как кто-то смотрит через плечо и читает написанное, но не оборачивался.
– Молодец, – на плечо Тихого легла тяжелая рука.
Затем обладатель этого голоса отдал какой-то знак, потому что в следующий момент Тихого подхватили под мышки и, несмотря на то что он отчаянно сучил ногами, поволокли на середину небольшой комнатки. Все необходимые приготовления были уже сделаны. Кухонная табуретка дожидалась, когда на нее ступят ногами. Люстра была снята, и вместо нее болталась веревка. Тихого волокли так, что он не мог увидеть этого, а только бессильно мычал, ворочая головой из стороны в сторону, словно тряпичная кукла. Его рывком поставили на табуретку, набросили на шею бечеву и тут же стремительно выбили из-под его ног табуретку.
Тихий засучил ногами, глаза вылезли из орбит, и, отчаянно дернувшись в последний раз, он повис, едва заметно покачиваясь. Лицо его застыло в гримасе безмолвного ужаса.
– Кедр, сними ленту, пусть язык висит натурально, а ты, Бон, не пялься на меня, как на телку, а затирай отпечатки. И ничего не лапать! Не брать! Врубились?! Жду внизу, в машине. Быстро чтоб!
Глава 2
Илларион Забродов был в замечательном расположении духа, которое, честно говоря, в последнее время посещало его нечасто. Радовало его, по крайней мере, то, что для хорошего настроения ему требовалось совсем немногое. «Хорошо все-таки, что я не такой привередливый, без запросов, как у молодежи, чтобы всего и много и сразу. Может, я раньше тоже таким был, но потом отошло как-то. Только вот интересно, мог бы мне сказать, тот же генерал Федоров, к примеру, хорошо это, что с возрастом человек усмиряет свои аппетиты и начинает радоваться тому, что у него есть. Вот и я, чем не образец для такой теории? Хорошенько выспался, кошмары не снились, на дворе солнце яркое светит, снежок выпал, машина бежит, как новенькая, никаких пробок. Только если так рассуждать, то радость примитивная какая-то получается. Стоп, – сказал себе Илларион. – Чего ты, в самом деле, расфилософствовался и размечтался прямо как поэт».
Он усмехнулся своему отражению в зеркале заднего вида и перестроился на левую полосу: по правой полосе ехать было невозможно, машины волочились, как караван в пустыне. «Нельзя так, – подумал Илларион. – И сам не едешь и другим не даешь. Что, только в Москве так? Или везде так ездят? Гордятся своей неуступчивостью. Только разве это неуступчивость? По-моему, самая обыкновенная глупость. Человек же и по делам может куда-то спешить, как я, например. Хотя разве это срочное дело – поменять летнюю резину на зимнюю? Или я не замечаю, как старею, и для меня каждая мелочь становится важной и называется делом? Тьфу, что за мысли лезут в голову! Услышал бы Федоров или Сорокин, на смех бы подняли! Сами на мои шутки обижаются, дуются, а вот меня поддеть любят, я же, по их мнению, обижаться не имею права».