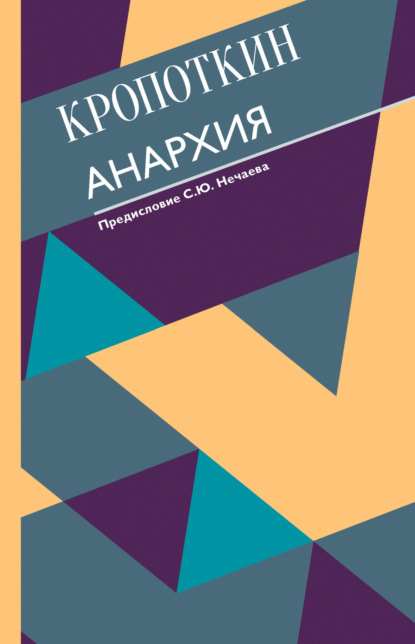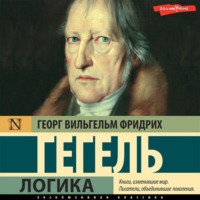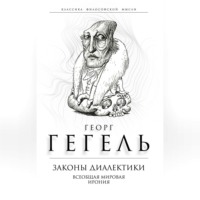Полная версия
Опыты сознания
Если выше значение рассудка (Verstand) было показано со стороны самосознания субстанции, то из сказанного здесь выясняется его значение со стороны определения субстанции как обладающей бытием. – Наличное бытие есть качество, сама с собой равная определенность или определенная простота, определенная мысль; это – смысл (Verstand) наличного бытия. Тем самым оно есть «нус» (νοῡς)16, в качестве которого Анаксагор впервые признал сущность. После него природа наличного бытия понималась определеннее как «эйдос» или «идеа» (εἶδος, ἰδέα)17, т. е. как определенная всеобщность, вид. Выражение «вид», быть может, покажется слишком низменным и незначительным для идей – для прекрасного, святого, вечного, – получивших эпидемическое распространение в наше время. Но фактически идея выражает не больше и не меньше того, что выражает вид. Однако теперь мы нередко видим, как пренебрегают выражением, определенно обозначающим какое-нибудь понятие, и предпочитают другое выражение, которое, – хотя бы только потому, что оно заимствовано из чужого языка, – окутывает понятие туманом и тем самым звучит назидательнее. – Именно потому, что наличное бытие определено как вид, оно есть простая мысль; «нус», простота, есть субстанция. Благодаря своей простоте или равенству с самой собой она кажется прочной и сохраняющейся. Но это равенство с самим собой есть также негативность; это приводит к растворению названного прочного наличного бытия. На первый взгляд кажется, что определенность есть определенность только благодаря тому, что имеет отношение к чему-то иному, и ее движение кажется навязанным ей какой-то посторонней силой; но как раз то, что оно имеет свое инобытие в себе самой и что она есть самодвижение, содержится в названной простоте самого мышления; ибо эта простота есть сама себя движущая и различающая мысль и собственная внутренняя сущность, чистое понятие. Таким образом, следовательно, рассудочность есть некоторое становление, и в качестве этого становления она – разумность.
В этой природе того, что есть: быть в своем бытии своим понятием — и состоит вообще логическая необходимость; она одна есть разумное и ритм органического целого, она в такой же мере есть знание содержания, в какой содержание есть понятие и сущность, – другими словами, она одна есть спекулятивное. – Конкретное образование, приводя само себя в движение, превращает себя в простую определенность; этим оно возводит себя в логическую форму и выступает в своей существенности; его конкретное наличное бытие есть только это движение и есть непосредственно логическое наличное бытие. Поэтому нет надобности извне навязывать конкретному содержанию формализм; это содержание само по себе есть переход в формализм, но последний перестает быть этим внешним формализмом, потому что форма есть свойственное ему становление самого конкретного содержания.
Эта природа научного метода, – состоящая, с одной стороны, в том, что он неотделим от содержания, а с другой в том, что его ритм определяется для него им самим, – получает в спекулятивной философии, как уже было упомянуто, свое изображение в собственном смысле. – Сказанное здесь хотя и выражает понятие, но может считаться лишь предвосхищенным заверением. Истина последнего не содержится в этом, частично повествовательном изложении и потому столь же мало опровергается противным заверением, что это не так, что, мол, дело обстоит так-то и так-то, – когда припоминаются и перечисляются привычные представления как несомненные и известные истины, или же когда из хранилища (Schreine) внутреннего божественного созерцания преподносят новое и заверяют в нем. – Обычно первая реакция знания, когда оно сталкивается с чем-то ранее ему неизвестным, состоит в такого рода враждебном приеме, который оно оказывает, имея в виду спасти свободу и собственное воззрение, защитить собственный авторитет от чужого (ибо в этом облике предстает то, что сейчас впервые воспринято), – а также с целью скрыть тот ложный стыд, который будто бы заключается в том, что чему-то обучались; точно так же как при одобрительном приеме того, что неизвестно, подобная реакция выражается в таких речах и действиях, которые в другой сфере были ультрареволюционными.
IV. Требования, предъявляемые к философскому изучению
1. Спекулятивное мышление
В силу этого при изучении науки речь идет о том, чтобы взять на себя напряжение понятия. Это напряжение требует внимания к понятию как таковому, к простым определениям, например, в-себе-бытия, для-себя-бытия, равенства с самим собой и т. д.; ибо они суть такие чистые самодвижения, которые можно было бы назвать душами, если бы их понятие не обозначало чего-то более высокого, чем они. Для привычки постоянно следовать представлениям прерывание их понятием столь же тягостно, как и для формального мышления, которое всячески рассуждает, не выходя за пределы недействительных мыслей. Такую привычку можно назвать материальным мышлением, случайным сознанием, которое только вязнет в материале и которому поэтому не легко в одно и то же время извлечь из материи в чистом виде свою самость и оставаться у себя. Другое же мышление, дискурсивное, есть, напротив, свобода от содержания и высокомерие по отношению к нему; от высокомерия требуется напряжение, чтобы отказаться от этой свободы, и вместо того, чтобы быть произвольно движущим принципом содержания, – потопить в нем эту свободу и, предоставив содержанию возможность двигаться согласно его собственной природе, т. е. при помощи самости как его собственной самости, рассматривать это движение. Освободиться от собственного вмешательства в имманентный ритм понятий, не вторгаться в него по произволу и с прежде приобретенной мудростью – такое воздержание само есть существенный момент внимания к понятию.
В резонерстве18 следует более четко выделить обе стороны, с которых ему противополагается мышление в понятиях. – Во-первых, резонерство относится негативно к постигнутому содержанию, умеет его опровергнуть и свести на нет. Усмотрение того, что дело обстоит не так, есть простая негативность; это есть то последнее, что само не может выступить за свои пределы и прийти к новому содержанию; для того, чтобы опять располагать каким-нибудь содержанием, оно должно откуда-нибудь раздобыть что-либо иное. Оно есть рефлексия в пустое «я», пустое тщеславие его знания. – Но это пустое тщеславие выражает не только то, что данное содержание пусто, но также и то, что само это усмотрение пусто; ибо оно есть негативное, которое не замечает внутри себя положительного. Вследствие того, что эта рефлексия не приобщает к содержанию самое свою негативность, она вообще – не в самой сути дела, а всегда за ее пределами. Поэтому она воображает, будто, утверждая пустоту, она всегда проникает дальше, чем какое-нибудь богатое содержанием воззрение. Напротив того, как выше указано, в мышлении, обращающемся к понятиям, негативное принадлежит самому содержанию и есть положительное и как его имманентное движение и определение, и как их целое. Понимаемое как результат, это мышление есть возникающее из этого движения определенное негативное и тем самым – также и некоторое положительное содержание.
Но ввиду того, что у такого мышления есть содержание, – будь то в виде представлений или мыслей или в виде смешения тех и других, – у него имеется [еще] другая сторона, которая затрудняет ему оперировать понятиями. Удивительная природа ее тесно связана с вышеуказанной сущностью самой идеи или, лучше сказать, выражает ее в том виде, в каком она предстает как движение, составляющее мыслящее постигание. – Дело в том, что как само дискурсивное мышление в своем негативном поведении, о чем только что была речь, есть самость, в которую возвращается содержание, так самость, напротив того, в своем положительном познавании есть представляемый субъект, к которому содержание относится как акциденция и предикат. Этот субъект составляет базис, к которому прикрепляется содержание и на котором то тут, то там совершается [его] движение. Иначе обстоит дело с мышлением в понятиях. Так как понятие есть собственная самость19 предмета, которая проявляется как его становление, то это мышление не есть покоящийся субъект, неподвижно несущий акциденции20, а есть понятие, которое само приводит себя в движение и принимает в себя обратно свои определения. В этом движении пропадает сам упомянутый покоящийся субъект; он проникает в различия и в содержание и скорее составляет определенность, т. е. как различаемое содержание, так и движение его, а не противостоит неподвижно этой определенности. Твердая почва, которую резонерство располагает в покоящемся субъекте, таким образом, колеблется, и только само это движение становится предметом. Субъект, который наполняет свое содержание, больше уже не выходит за пределы последнего, и у него не может быть еще иных предикатов21 и акциденций. Наоборот, разбросанность содержания благодаря этому связана самостью; содержание не есть то всеобщее, которое, будучи свободно от субъекта, приходилось бы на долю многих. Содержание тем самым на деле уже не предикат субъекта, а субстанция, сущность и понятие того, о чем идет речь. Мышление в представлениях, поскольку оно по самой своей природе имеет дело с акциденциями или предикатами и с полным правом выходит за их пределы, потому что они только предикаты и акциденции, – это мышление задерживается в своем течении, так как то, что в предложении имеет форму предиката, есть сама субстанция. Это мышление испытывает, так сказать, ответный удар. Начиная с субъекта, как если бы последний все еще служил основанием, оно видит (поскольку скорее предикат есть субстанция), что субъект перешел в предикат и тем самым снят; и поскольку, таким образом, то, что кажется предикатом, стало цельной и самостоятельной массой, мышление не может свободно блуждать, а задерживается этой тяжестью. – Обычно в основу положен прежде всего субъект как предметная устойчивая самость; отсюда продолжается необходимое движение к многообразию определений или предикатов; теперь на место названного субъекта вступает само знающее «я», которое связывает предикаты и есть удерживающий их субъект. Но так как тот первый субъект сам входит в определения и составляет их душу, то второй субъект, т. е. знающий, все еще находит его в предикате. Второй субъект хочет уже покончить с первым и, выйдя за его пределы, уйти назад в себя. И вместо того, чтобы иметь возможность быть в движении предиката действующим началом в качестве рассуждения по поводу того, приписать ли первому субъекту тот или иной предикат, – вместо этого знающий субъект, напротив, еще имеет дело с самостью содержания и должен быть не для себя, а вместе с последним.
Со стороны формы сказанное можно выразить так: природа суждения или предложения вообще, заключающая в себе различие субъекта и предиката, разрушается спекулятивным предложением, и в тождественном предложении, в которое превращается первое, содержится обратный толчок названному отношению. – Этот конфликт между формой предложения вообще и разрушающим ее единством понятия похож на тот конфликт, который имеет место в ритме между метром и акцентом22. Ритм получается в результате колеблющегося среднего и соединения обоих. Точно так же в философском предложении тождество субъекта и предиката не должно уничтожать их различие, которое выражается формой предложения, а единство их должно получиться в виде некоей гармонии. Форма предложения есть явление определенного смысла или акцент, которым различается его наполнение. В том, однако, что предикат выражает субстанцию и что субъект сам относится ко всеобщему, и состоит единство, в котором замирает названный акцент.
Для пояснения сказанного возьмем, например, предложение: «бог есть бытие», в котором предикат-«бытие»; он имеет субстанциальное значение, в котором субъект расплывается. «Бытие» здесь должно быть не предикатом, а сущностью; благодаря этому бог, как будто, перестает быть тем, что он есть по месту, которое он занимает в предложении, т. е. устойчивым субъектом. – Мышление, вместо того чтобы идти дальше, переходя от субъекта к предикату, чувствует себя (поскольку субъект пропадает) скорее задержанным и отброшенным назад к мысли о субъекте, потому что оно не видит его; или: так как сам предикат высказан в качестве субъекта, в качестве бытия, в качестве сущности, исчерпывающей природу субъекта, то мышление находит субъект непосредственно также в предикате. И вот, вместо того чтобы в предикате уйти в себя и занять свободную позицию резонерства, мышление все еще углублено в содержание или, по крайней мере, стоит перед требованием углубиться в него. – Точно так же, когда говорят: действительное есть всеобщее, то действительное, будучи субъектом, пропадает в своем предикате. Всеобщее не только должно иметь значение предиката, так чтобы предложение высказывало, что действительное всеобще, но всеобщее должно выражать сущность действительного. – Мышление поэтому в такой же мере теряет под собою твердую предметную почву, которую оно имело в субъекте, в какой оно отбрасывается назад к субъекту в предикате, и в нем уходит назад не в себя, а в субъект содержания.
На этой непривычной задержке основаны по большей части жалобы на непонятность философских сочинений, если у индивида имеются налицо прочие условия образования для понимания их. В сказанном мы видим основание для вполне определенного упрека, который часто делается этим сочинениям, [а именно], что многое нужно перечитывать несколько раз, прежде чем его можно понять; – упрек, который должен содержать в себе нечто обидное и окончательное, так что если бы он был обоснован, он уже не допускал бы никакого возражения. – Из вышеизложенного ясно, в чем тут дело. Философское предложение, потому что оно – предложение, порождает мнение об обычном отношении субъекта и предиката и о привычном поведении знания. Это его поведение и мнение разрушаются философским содержанием предложения; мнение на опыте узнает, что имеется в виду не то, что оно имело в виду; и эта поправка его мнения вынуждает знание вернуться к предложению и теперь понять его иначе.
Затруднение, которого следовало бы избегать, заключается в смешении спекулятивного и дискурсивного способов, когда сказанное о субъекте в одном случае имеет значение его понятия, а в другом случае – только значение его предиката или акциденции. – Один способ мешает другому. И только то философское изложение достигло бы пластичности23, которое строго исключило бы способ обычного отношения частей предложения.
Фактически и у неспекулятивного мышления есть свои права, которые законны, но в строении (in der Weise) спекулятивного предложения они не принимаются во внимание. Снятие формы предложения должно совершаться не только непосредственно, не через одно лишь содержание предложения. Это противоположное движение должно быть выражено, оно должно быть не только упомянутой внутренней задержкой, но это возвращение понятия в себя должно быть изложено. Это движение, которое составляет то, что в других случаях должно было выполнять доказательство, есть диалектическое движение самого предложения. Оно одно есть действительное спекулятивное, и только выражение этого движения есть спекулятивное изложение. В качестве предложения спекулятивное есть только внутренняя задержка и неналичное возвращение сущности в себя. Поэтому мы так часто видим, что философские изложения отсылают нас к этому внутреннему созерцанию и благодаря этому избавляют себя от изложения диалектического движения предложения, чего мы требовали. – Предложение должно выражать, что есть истинное, но истинное по существу есть субъект. В качестве субъекта оно есть только диалектическое движение, этот сам себя порождающий, двигающий вперед и возвращающийся в себя процесс. – Во всяком другом познавании эту сторону высказанной внутренней сущности составляет доказательство. Но после того как диалектика была отделена от доказательства, понятие философского доказывания было фактически утрачено.
Могут указать по этому поводу, что и диалектическое движение пользуется предложениями в качестве своих частей или элементов; названное затруднение поэтому как будто всегда повторяется и есть затруднение, проистекающее из самой сути дела. – Это похоже на то, что бывает при обыкновенном доказательстве: основания, которыми оно пользуется, в свою очередь сами нуждаются в обосновании, и так далее до бесконечности. Но эта форма обоснования и обусловливания свойственна тому способу доказательства, от которого отличается диалектическое движение, и, следовательно, она свойственна внешнему познаванию. Что касается самого диалектического движения, то его стихия – чистое понятие; поэтому у него есть некоторое содержание, которое в самом себе есть от начала до конца субъект. Следовательно, нет такого содержания, которое было бы субъектом, лежащим в основе, и которому его значение приписывалось бы в качестве предиката; предложение непосредственно есть лишь пустая форма. – Кроме чувственно-созерцаемой или представляемой самости, как раз имя как имя прежде всего обозначает чистый субъект, пустую, лишенную понятия единицу. На этом основании, может быть, было бы полезно избегать, например, имени «бог», потому что это слово не есть в то же время непосредственно понятие, а есть собственное имя, незыблемый покой лежащего в основе субъекта; тогда как, напротив, [такие слова, как,] например, «бытие» или «единое», «единичность», «субъект» и т. д., и сами непосредственно обозначают понятия. – Если о названном субъекте и высказываются спекулятивные истины, то все же их содержанию недостает имманентного понятия, потому что это содержание наличествует только в качестве покоящегося субъекта, и благодаря этому обстоятельству эти истины легко приобретают форму простой назидательности. – Таким образом, с этой стороны то препятствие, которое коренится в привычке брать спекулятивный предикат в форме предложения, а не как понятие и сущность, также может быть усугублено или уменьшено в зависимости от того, каково само философское изложение. Изложение, оставаясь верным проникновению в природу спекулятивного, должно сохранять диалектическую форму и включать только то, что постигается в понятии и что есть понятие.
2. Гениальность и здравый человеческий смысл
Точно так же, как резонерством, изучение философии затрудняется и не относящимся к резонерству преклонением перед окончательными истинами, к которым обладающий ими не считает нужным возвращаться, а кладет их в основу и думает, что может их провозглашать, а равно – судить и решать по ним. С этой стороны особенно необходимо, чтобы философствование снова стало серьезным занятием. Относительно всех наук, изящных и прикладных искусств, ремесел распространено убеждение, что для овладения ими необходимо затратить большие усилия на их изучение и на упражнение в них. Относительно же философии, напротив, в настоящее время, видимо, господствует предрассудок, что, – хотя из того, что у каждого есть глаза и руки, не следует, что он сумеет сшить сапоги, если ему дадут кожу и инструменты, – тем не менее каждый непосредственно умеет философствовать и рассуждать о философии, потому что обладает для этого меркой в виде своего природного разума, как будто он не обладает точно так же меркой для сапога в виде своей ноги. – Будто и впрямь овладение философией предполагает недостаток знаний и изучения и будто она кончается там, где последние начинаются. Философия часто считается формальным, бессодержательным знанием, и нет надлежащего понимания того, что все, что в каком-нибудь знании и в какой-нибудь науке считается истиной и по содержанию, может быть достойно этого имени только тогда, когда оно порождено философией; что другие науки, сколько бы они ни пытались рассуждать, не обращаясь к философии, они без нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, ни истиной.
Что касается философии в собственном смысле, то мы видим, что для длинного пути образования, для столь же богатого, сколь и глубокого движения, в котором дух достигает знания, полным эквивалентом и столь же хорошим суррогатом, каким, скажем, цикорий расхваливается в качестве суррогата кофе, – считается непосредственное откровение божественного и здравый человеческий смысл, который не обременял и не развивал себя ни приобретением другого знания, ни философствованием в собственном смысле. Печально то, что незнание и даже бесцеремонное и лишенное вкуса невежество, неспособное сосредоточить свои мысли на каком-либо абстрактном предложении, а тем более на связи между несколькими предложениями, выдает себя то за свободу и терпимость мышления, а то и за гениальность. Точно так же, как теперь в философии, одно время гениальность, как известно, свирепствовала в поэзии. Но вместо поэзии, если в продукции этой гениальности был какой-нибудь смысл, она создавала тривиальную прозу или, когда выходила за ее пределы, – невразумительную риторику. Так и теперь естественное философствование, которое ставит себя выше понятия и за недостатком его считает себя созерцательным и поэтическим мышлением, выставляет напоказ произвольные комбинации воображения, которое только дезорганизуется мыслями, произведения – ни рыба, ни мясо, ни поэзия, ни философия.
Естественное же философствование, протекая по более спокойному руслу здравого человеческого смысла, потчует нас риторикой тривиальных истин. Когда ему ставят в упрек ничтожество этих истин, оно возражает, что смысл и осуществление – у него в сердце, и точно так же должно быть у других, так как оно считает, что, говоря о невинном сердце и чистой совести и т. п., оно вообще изрекает окончательные истины, против которых прекословить невозможно и от которых требовать чего-либо большего нельзя. Но тогда следовало позаботиться о том, чтобы лучшее не оставалось в недрах, а было извлечено из этой глубины наружу. От этого труда – высказывать последние истины такого сорта – давно можно было бы избавить себя; ведь их с давних пор можно найти, например, в катехизисе, в народных поговорках и т. д. – Легко уловить неопределенность или двусмысленность этих истин, и нередко можно показать их сознанию в нем самом прямо противоположные истины. Прилагая усилия выбраться из произведенной в нем путаницы, это сознание впадет в новую путаницу и, конечно, разразится заявлением, что, мол, как всем известно, дело обстоит именно так, а прочее есть софистика; это такое же избитое словечко здравого человеческого смысла, направленное против образованного разума, как и выражение: мечтания, каким невежество в философии раз и навсегда заклеймило последнюю в своих глазах. – Этот здравый смысл, взывая к чувству, этому своему внутреннему оракулу, прекращает разговор с теми, кто [с ним] не согласен; он вынужден объявить, что ему больше нечего сказать тому, кто не находит и не чувствует в себе того же; – другими словами, он попирает ногами корень человечности. Ибо в природе последней – настаивать на согласии с другими, и ее существование заключается лишь в осуществленной общности сознаний. Противочеловеческое, животное состояние не выходит за пределы чувств, и взаимное общение в нем возможно только посредством чувства.
Если бы требовалось назвать царский путь к науке24, нельзя было бы указать пути более удобного, чем путь, заключающийся в том, чтобы положиться на здравый человеческий смысл и – дабы, впрочем, не отстать от времени и философии, – читать рецензии на философские произведения, да, пожалуй, предисловия и первые параграфы этих произведений. Ибо в предисловиях и первых параграфах даются общие принципы, на которых все строится, а в рецензиях – наряду с историческими сведениями также критика, которая, – именно потому, что она критика, – стоит даже выше критикуемого. Этот обыденный путь проходит в домашнем платье; но возвышенное чувство вечного, священного, бесконечного шествует в первосвященнических облачениях – по пути, который сам уже является скорее непосредственным бытием в самом центре, гениальностью глубоких оригинальных идей и словно молнией озаренных высоких мыслей. Но подобно тому, как такая глубина еще не открывает родника сущности, так и эти ракеты еще не есть эмпирей. Истинные мысли и научное проникновение можно приобрести только в работе понятия. Оно одно может породить ту всеобщность знания, которая есть не обыкновенная неопределенность и скудость здравого человеческого смысла, а развитое и совершенное познание, и не необыкновенная всеобщность дарований разума, развращающихся косностью и самомнением гения, а истина, достигшая свойственной ей формы, – словом, всеобщность, которая способна быть достоянием всякого разума, обладающего самосознанием.