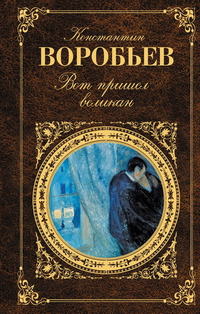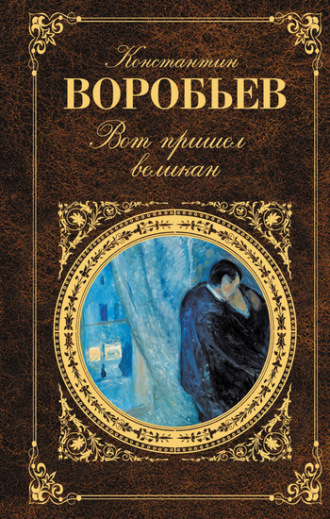
Полная версия
Вот пришел великан (сборник)
– Взаправду не знает, а я позабыл сказать. Так что… никакой тут оказии нетути. Живешь и живи… А вечерком давайте встретимся. Ты зараз подвези-ка меня на Покровский. Я только вот захвачу в машинке кое-что…
Он буквально подталкивал меня к «Волге», и я не стал оглядываться на Михана. Я ждал трудного и ненужного объяснения с дядей Мироном, – ведь в машине он ничего не забыл. Я сел на свое место, а дядя Мирон зашел справа, просунул голову в полуоткрытую дверцу и, одергивая на мне пиджак, сказал:
– Сгорел со стыда человек!
– А чего это он? – спросил я.
– Ну как же. Жил-жил вроде бы в казенной хате, а тут хлоп тебе – хозяин явился… Ты, гляди, не обидь его чем-нибудь. Мужик он хороший, достатку большого нетути, а детишек настругал как грах Покровский.
Дядя Мирон залился тихим и озорным смехом, как маленький, и я тоже засмеялся, но не этому его сравнению Михана с графом, а другому – своей внезапной и беспричинной радости.
– Чудаки вы! – сказал я.
– Это верно. Все мы люди… А ты зачем в Медведовку-то?
– Заправиться. Через час вернусь.
– Ага. Ну поезжай… – Он пошлепал ладонью руль и попятился было из машины, но тут же притиснулся ко мне и проговорил на ухо: – Ты вот чего… Ты не признавайся тут, будто служишь писателем, слышь? Коли кто спросит, скажи, что по ученой линии насчет леса, дескать. И машинка, мол, своя… Ладно?
Я молча кивнул.
…Косьянкин мог ехать как и тогда, и мы бы встретились и узнали друг друга. Нет, не на выгоне, а чуть подальше от Ракитного, там, где объехал меня вчера Михан. Интересно, как агрономы называют след колеса в зеленях? Линейной резаной раной?… Косьянкин должен ехать в той же бричке, на белых лошадях. Тогда я загорожу ему дорогу, выйду из машины и, может, после этой встречи закончу свою повесть…
За ночь след колес михановских дрожек помелел и затянулся встающими зеленями. След заживал. Я остановился возле него, вышел из машины и ощутил, увидел и услышал все сразу: текучую прохладу утра; искристо лучащийся солнечный диск над невидимой Медведовкой; серебряную нитку жавороночной песни, спиралями вьющейся в поднебесной шири; радужное сияние окропленных росой зеленей; диво живой могучей тишины, в которой зарождался огромный новый день; созревание в сердце бессловесного гимна в благодарность кому-то за то, что все это есть и все это мое!.. Мысленно, чтобы ничего тут не осквернить и не нарушить, я сказал тени Косьянкина всего лишь одно слово – наше, ракитянское, – и до самой Медведовки пел в машине наши же, ракитянские, частушки про деда Кузьму и козу, горку и черемуху, валенки и завалинку…
Если б только кто послушал эти частушки!..
Вывеска на медведовском сельмаге была новая, не та, что я помнил. Вот тут, метрах в ста от него, тогда уже колобродил, туманил голову, запах хлеба. Тот хлеб назывался коммерческим, и я до сих пор не знаю, что это значит. Вот тут, возле угла пожарного сарая, где я сейчас сижу в машине, тогда оканчивалась хороводная очередь.
– Хвиль, а Хвиль! Ну дай же ради Христа, а?
– Хвиль!
– Хвиль!!!
Это все вразнобой, в костоломной давке, в ненависти, любви и вере к кому-то, и я, тоненький, как балалаечный гриф, кричал, пожалуй, пронзительнее всех и тоже: «Хвиль!», потому что все величали его так в надежде получить клеклую кирпичину хлеба за деньги, без сдачи. А он, завмаг Филипп Женеев, был сыто невозмутим и сонно припухл, и глаза у него были круглые, серые и бессмысленные, как шляпки новых гвоздей.
Теперь в сельмаге пахло разным и сложным – сыромятной кожей, скобяным товаром, камсой, ситцем, ванилью. Черный и белый хлеб лежал на своем месте – в левой части магазина, и я не ощутил его запаха. Постаревшего, обмякшего Филиппа Женеева я узнал с порога – те же глаза, та же сонливость и безответная сытость. Он стоял за прилавком в бакалейном отделе, поближе к свету и хлебу, а я прошел в промтоварный затененный угол. В магазин изредка заходили покупатели и знакомо здоровались с Женеевым. Он молча кивал им. Он кивал почти незаметно, и не вперед головой, а вбок, как это делают, когда не соглашаются на просьбу.
И я понял, что Женеев не забыл тот коммерческий хлеб и в лицо помнит всех, кто стоял за ним в очереди, и что у меня не прошли к нему, к Женееву, тот детский трепет, смятение и удивление его всесильностью; в моем сердце все еще жила ненавистная готовность крикнуть ему: «Хвиль!» Я закурил, зная, что в магазине курить нельзя, и, когда Женеев заметил это, повернулся к нему спиной. «Ну давай, давай! Скажи мне что-нибудь», – втайне просил я Женеева, но он молчал и не двигался с места. Тогда и я увидел эти повешенные комплекты. Их было двенадцать, и висели они спинками ко мне на крючьях, вбитых в невысокий потолок, – фуражка, телогрейка, свисающие из-под нее молескиновые штаны, оттянутые книзу юхтовыми ботинками на резиновой подошве, и нельзя было понять, чем они крепились к штанам и почему штаны пузырились в коленках. Я вторично пересчитал комплекты – их было двенадцать – и обернулся к Женееву. Он стоял, курил и подозрительно смотрел на меня.
– Подите сюда, товарищ Женеев! – сказал я. Я сказал это неожиданно для себя и для него, и он пошел по-за прилавком, торопясь и чего-то пугаясь, гася пальцами папиросу.
– Слушаю вас, – сказал он.
– Уберите это! – показал я на комплекты.
– А что такое? Маркировка неправильная?
– Снимите и разложите все отдельно. На полках, – сказал я, и он молча и нелегко полез на прилавок.
После, когда он управился, я купил телогрейку, большой коричневый полушалок, модные остроносые туфли сорокового размера и четыре метра штапельного полотна цвета моей прокатной «Волги». Михану я купил металлический портсигар, украшенный орлом. Еще я купил три бутылки «Ерофеича» и две буханки хлеба.
– Это не коммерческий? – спросил я у Женеева.
– Обнаковенный, – буркнул он.
Сдачу за хлеб я пересчитал дважды, и когда уходил, Женеев дважды сказал мне: «До свиданьица».
Плотников на срубе не было, но я остановился на вчерашнем месте и стал ждать: мне не хотелось везти в Ракитное муторное настроение от встречи с Женеевым.
За ночь на гривке канавы подросли лопушки. В их морщинистых зеленых ладошках, обернутых к солнцу, скопились лучащиеся монисты росы. На восковом стропиле сруба сидел скворец, сверкавший, как кусок антрацита. Он пушил хвост и крылышки, разбойно верещал и пружинисто скакал – пять скачков вправо, пять влево. Он проделывал это до тех пор, пока рядом, на отбитое им у невидимого соперника место, не села маленькая, крапинно-серенькая скворчиха, и, упоенно свистнув и непостижимо кувыркнувшись в воздухе, скворец коротко, на секундный миг слился с нею прямо на виду целого мира.
– Жулик! – сказал я ему и стал разворачивать машину, – ждать плотников было уже не обязательно…
Какая бы ни была радость – маленькая или большая, тайная или открытая, – но она, как жених невесту, обнимает сердце человека, и сердце сперва замирает, а затем торопится сообщить телу о наступлении в нем праздника, и тут не каждый справляется со своими руками: им сообщаются юная порывистость и резвость.
Это, может, и было причиной тому, что моя «Волга» прочно засела в канаве. Там под слежавшимся пластом выветренного мусора оказался сизый крупитчатый снег, и задние колеса машины, пробуксовав, зарылись в него и провисли, – диффер улегся на кромку дороги. Я промерил палкой глубину канавы, влез на гривку к лопушнику и сел: надо было ждать той неведомой минуты, когда я выберусь отсюда с помощью грузовика. В неминуемость этого сокровенного момента верует каждый порядочный шофер, застрявший в канаве, и дело лишь в спокойном ожидании, а бесконечным оно никогда не бывает. Я сидел и смотрел на «Волгу» – беспомощно сияющую безножку, смешно задравшую нос из канавы; она была похожа на смарагдового жука, когда его чуть-чуть щелкнешь пальцем. Тогда он замирает, оседая задом на землю, и может сидеть так, притаясь, минут двадцать. Попробуй не щелкнуть его еще и еще раз! Я сидел и смотрел на «Волгу», а по проулку к центру Медведовки и ко мне шел и по-девичьи заливисто пел «страдание» паренек в расстегнутой засаленной телогрейке:
Мой миленочек не глуп,Завернул меня в тулуп.К стеночке приваливал,Замуж уговаривал.В правой руке у него болталась авоська с разноцветными пустыми бутылками. Они позвякивали и сверкали на солнце, как драгоценные камни. Поравнявшись со мной, он снова пропел тот же куплет и оглянулся. Позади него, не нагоняя и не отставая, шел другой, пожилой, медведовец в длинном синем плаще и кожаной фуражке, надетой глубоко и прямо, как каска. Она и отсвечивала по-железному.
– Посидим-подымим? – окликнул его передний на высокой песенной ноте, не переставая размахивать авоськой, и я решил, что он – «дядька» на чьей-нибудь свадьбе и телогрейка тут ни при чем. Он остановился и весело ждал, а тот, в плаще, шагал прямо на него и, сойдясь, скрипуче сказал:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.