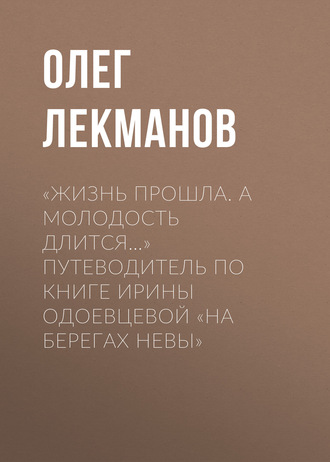
Полная версия
«Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»

Олег Андершанович Лекманов
«Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»
© Одоевцева И.В., наследники
© Лекманов О.А.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
© Русский музей, Санкт-Петербург
© ООО “Издательство АСТ”
Зачем читать эту книгу?
Чем книга “На берегах Невы” может быть интересна современному читателю? Я бы предложил три взаимодополняющих ответа на этот вопрос. Во-первых, мемуары Одоевцевой – богатый источник информации о Николае Гумилеве и других русских поэтах начала ХХ века. Во-вторых, выразительный результат работы человеческой памяти. И, наконец, в-третьих – вполне увлекательный художественный текст.
Попробую чуть подробнее развернуть каждый из перечисленных пунктов, опираясь на следующий ниже путеводитель по книге “На берегах Невы”, но стараясь не дублировать конкретных наблюдений, сделанных в нем.
Разговор о воспоминаниях Одоевцевой как источнике информации уместно будет объединить с краткой биографической справкой о самой поэтессе, а также историей написания и публикаций ее книги “На берегах Невы”.
Ираида (Рада) Густавовна Гейнике (так на самом деле звали Одоевцеву) родилась, как установила Анна Слащева по метрике рижской Свято-Алексеевской церкви, 4 августа (по новому стилю) 1895 года в Риге в семье преуспевающего адвоката. Впоследствии она, стремясь омолодиться в глазах читателей, называла более поздние годы, говоря о дате своего рождения (вплоть до 1901 года), да и наивная героиня книги “На берегах Невы”, особенно первых ее страниц, не производит впечатления девушки, которой больше двадцати лет. До самого последнего, ленинградского периода своей жизни Одоевцева ничего не писала и о своем первом муже (и двоюродном брате), которому была посвящена дебютная книга ее стихов (“Сергею Алексеевичу Попову-Одоевцеву”; см.: 265, с. <6>)[1]. Поэтесса объясняла это ревностью своего второго мужа: “Георгий Иванов взял с меня слово никогда об этом «браке» не упоминать, желая всегда считаться моим первым мужем” (288, с. 201). Впрочем, на некоторые страницы книги “На берегах Невы” Сергей Попов отбрасывает едва заметную тень.
Однако брак с ним был заключен лишь 2 июля 1917 года[2]. А в 1913 году Ираида Гейнике закончила частную женскую гимназию Людмилы Тайловой в Риге, и в июле 1914 года, после начала Первой мировой войны, она вместе с семьей переехала в Петроград. Здесь будущая Ирина Одоевцева с 1915-го по весну 1917 года была слушательницей Курсов новых языков М.А. Лохвицкой-Скалон (чью частную гимназию, между прочим, закончили будущая жена Гумилева Анна Энгельгардт и Ольга Гильдебрандт-Арбенина). Уже после революции, в ноябре 1918 года Рада Гейнике сделала шаг, предопределивший всю ее судьбу, – стала студисткой петроградского Института живого слова, в котором преподавал Николай Степанович Гумилев. Дальнейшее восхождение под его руководством к вершинам признания подробно и с упоением описано в книге “На берегах Невы”.
Ревнивые соперницы поэтессы (Одоевцева стала не только одной из возлюбленных Гумилева, но и адресаткой его лирики) чуть по-разному вспоминали о гумилевских оценках стихов его “лучшей ученицы”. Ольга Мочалова: “…приятно и развлекательно, как щелканье орешков” (137, с. 21); Ольга Гильдебрандт-Арбенина: “Меня интересовала Одоевцева – про нее говорил: «Ей бы быть дамой на балу рижского губернатора». Как поэтессу он находил ее способной – учил ее писать баллады” (96, с. 452). Не подлежит сомнению, что выход дебютной книги стихов Одоевцевой “Двор чудес” (Пг., 1922) стал заметным событием тогдашней петроградской литературной жизни. На книгу было опубликовано больше десяти рецензий (212, с. 333), причем тон большинства из них был весьма приподнятым. “…чутье стиля в такой мере, как у Одоевцевой, – признак дарования очень крупного”, – писал, например, Владимир Пяст, увлекавшийся открытием молодых талантов (319, с. 6).
А Евгений Геркен даже напечатал на стихи из “Двора чудес” пародию, что, как известно, можно считать еще одной формой признания:
БАЛЛАДА О ФОКСТЕРЬЕРЕ
Графиня Кольдкрем была так молода,Графиня любила гулять иногда…Идет она как-то тропинкой лесной,Вдруг видит – пред ней фокстерьер голубой…А с неба смотрела большая луна,Графиню Кольдкрем озаряла она.И стала графиня русалки бледней:“На свете немало я прожила дней,Немало видала чудес я земных,Нигде не встречала собак голубых”.Наутро охотиться выехал граф(Любил он стрелять тонконогих жираф).Вдруг видит, в лесу, где примята трава,Супруги-графини лежит голова.Забыл граф охоту любимую тут,Пришпорил коня, прискакал в домкомтруд.Он входит, шатаясь, и сам он не свой:Пред ним за столом фокстерьер голубой!(92, с. 4)
Увы, то, что казалось лишь многообещающим дебютом, в итоге оказалось едва ли не звездным часом.
Осенью 1922 года Одоевцева в Берлине надолго соединила свою жизнь с жизнью Георгия Иванова (их отношения завязались еще в Петрограде, затем влюбленные охладели друг к другу; в течение некоторого времени Одоевцева даже считалась невестой другого). Тридцать шесть лет, проведенных с Ивановым во Франции, вначале благополучных и сытых (Одоевцевой помогал отец, а потом супруги получили хорошее наследство), после Второй мировой войны обернулись почти “библейской бедностью”, как мимоходом пожаловался Иванов в письме к В. Маркову от 21 декабря 1957 года (438, с. 48). Хотя в эмиграции Одоевцева издала три прозаических романа и пять сборников стихов, шумного успеха ни один из них не имел.
26 августа 1958 года Георгий Иванов умер. И уже 12 сентября этого года Георгий Адамович в письме советовал Одоевцевой: “По-моему, Вы должны приняться писать большой труд «Моя жизнь с Г<еоргием> Ив<ановым>» – как Зинаида о Мережковском: обо всем, с первой Вашей встречи, и всю ambiance (атмосферу. – О.Л.), до конца, от Гумилева до Hyères” – курортного городка на юге Франции, где Иванов и Одоевцева поселились в пансионате Beau Séjour для пожилых людей – выходцев из стран, находившихся под властью Сталина или Гитлера и не имеющих собственного жилья, и где Иванов умер (78, с. 570).
Вряд ли именно этот отрывок из письма Адамовича, пусть и специально отчеркнутый им самим, побудил Одоевцеву взяться за книгу “На берегах Невы”. И вовсе не потому, что главным своим вдохновителем она позднее назвала Юрия Терапиано (см. c. 595), а потому, что описание семейной жизни с Георгием Ивановым изначально совсем не было основной задачей Одоевцевой-мемуаристки. Работа над воспоминаниями стала для нее своеобразной терапией или, если угодно, возможностью взять реванш за тускло прожитые годы эмиграции. Как на машине времени, Одоевцева перенеслась в эпоху, когда она вращалась в орбите лучших тогдашних петербургских поэтов.
И вот с этой задачей – вписать себя в звездную карту петроградского поэтического небосклона конца 1910-х – начала 1920-х годов – напрямую связана едва ли не важнейшая особенность книги “На берегах Невы” как свода информации о знаменитых современниках поэтессы. В случаях с Гумилевым, Георгием Ивановым, Михаилом Лозинским и в меньшей степени – Мандельштамом эксклюзивного материала у Одоевцевой было много. В случаях с Кузминым, Ахматовой и Блоком – гораздо меньше. А в случаях с Андреем Белым, Ремизовым и Сологубом такого материала не было почти совсем. Одоевцевой же непременно хотелось дать в книге если не полную, то хотя бы впечатляющую картину литературного процесса в Петрограде, причем самой предстать полноправной участницей этого процесса.
Нужно отдать ей должное: Одоевцева пошла не по пути беззастенчивого выдумывания никогда не бывших событий, а по более или менее честному пути историко-литературной компиляции – тщательно подбирая, один к одному, и тасуя факты, взятые из мемуаров современников (в первую очередь Георгия Иванова, Владислава Ходасевича и Андрея Белого) и исследований филологов (прежде всего Константина Мочульского).
Повторимся: страниц о Гумилеве, Иванове и Мандельштаме это почти не касается, поскольку об этих поэтах Одоевцевой действительно было что вспомнить.
Отрывки из книги “На берегах Невы” стали появляться в эмигрантской печати начиная с 6 февраля 1962 года – в парижской газете “Русская мысль” за 1962 и 1964 годы, в мюнхенском альманахе “Мосты” за 1962 год, а также (самая большая порция) в нью-йоркском “Новом журнале” за 1962–1963 годы. Простейший стилистический анализ ясно показывает, что Одоевцева не отбирала для журнальных и газетных публикаций фрагменты из уже готовой книги, а, напротив, писала тот или иной кусок под очередную публикацию. Отсюда – многочисленные повторы в итоговом варианте книги, поскольку вычистить все эти повторы, соединяя отрывки в целое, Одоевцева просто не успела или же у нее не хватило усидчивости. Наиболее интересные журнальные и газетные фрагменты и микрофрагменты из тех, что элиминированы в итоговом варианте книги, приводятся в нашем путеводителе. При этом целый ряд фрагментов ни в какие предварительные публикации не вошел и, скорее всего, писался специально для книжной версии.
Одоевцева несколько раз читала отрывки из своей еще на законченной книги публично, проверяя их на слушателях. В отчете об одном из таких чтений, состоявшемся в Париже в 1963 году, Елена Рубисова рассказала и о вступительном слове Георгия Адамовича, который, судя по всему, уклонился от разговора о степени правдивости мемуаров Одоевцевой, и об устных воспоминаниях Юрия Терапиано про встречи с Мандельштамом в Киеве, и о жадном ожидании русскими читателями-эмигрантами выхода полного текста книги “На берегах Невы”: “Облеченные в блестящую литературную форму <…>, ее воспоминания воссоздают ушедшие годы и дадут читателю возможность пережить это недавнее литературное прошлое” (334, c. 8).
11 марта 1968 года нью-йоркская газета “Новое русское слово” сообщила о выходе “На берегах Невы” в известном издательстве В.П. Камкина (строго говоря, оно называлось не “издательством”, а “книжным делом”) (368, с. 443). Хотя сама Одоевцева жаловалась на многочисленные и досадные опечатки (“Их, к сожалению, масса. <…> Слава Богу, читатели не замечают. Но мне обидно” (см.: (427, с. 507)), рецензенты встретили книжную версию мемуаров “почти единодушным одобрением” (340, с. 832). “…многое еще следовало бы сказать об этой книге, но как передать главное в ней – ее особое «легкое дыхание», как говорил об И. Одоевцевой Бунин?” – вольно или невольно уподобляя Одоевцеву Оле Мещерской, риторически вопрошал в своем отклике ее ближайший друг и поздний возлюбленный Юрий Терапиано (362, с. 9). Георгий Адамович был сдержаннее, но и он оценил книгу давней приятельницы очень высоко: “Читая книгу Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», я чуть ли не на каждой странице удивлялся: какая точность, как в целом все верно!” (5). Положительной была и рецензия на книгу Одоевцевой, написанная Романом Гулем и опубликованная в 98-м номере нью-йоркского “Нового журнала”, где Гуль был главным редактором.
А вот одна из читательниц в СССР, познакомившаяся даже не с книгой Одоевцевой, а только с отрывками из нее, оценила “На берегах Невы” чрезвычайно низко, и эта уничижительная оценка решающим образом повлияла на дальнейшую репутацию книги в кругах свободомыслящей интеллигенции. Я, разумеется, имею в виду Анну Андреевну Ахматову: ей не могли прийтись по душе ни длинные монологи, которые Одоевцева вложила в уста своих персонажей, ни то обстоятельство, что в монологах Гумилева речь часто велась о ней, Ахматовой, и ее семейной жизни, ни, наконец, сам тот факт, что очередная эмигрантка, находящаяся “под защитой чуждых крыл”, смеет писать о поэтах, оставшихся в Советской России и убитых, как Гумилев и Мандельштам, государством. Ахматова почти всегда говорила и писала об Одоевцевой очень резко, и многие ее близкие знакомые усвоили ту же манеру (см. с. 796–797). Чтобы напомнить, сколь влиятельными бывали ахматовские мнения и оценки, приведем здесь ее реплику, зафиксированную в воспоминаниях Анатолия Наймана: “У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло” (249, с. 88).
Еще одна причина раздражения Ахматовой против младших друзей Гумилева заключалась в том, что ими, как она полагала, в свое время была предпринята попытка принизить значение ахматовской поэзии и за счет этого продвинуть в первые русские поэтессы начала 1920-х годов Одоевцеву. “Они <…> думали, что мое место пусто, и решили передать его И. Одоевцевой”, – разъясняла Ахматова в записной книжке 1961 года (143, с. 145). Что касается книги “На берегах Невы”, то у ее автора хватило ума, такта и вкуса открыто не сводить с Ахматовой личные счеты. Тем не менее мемуаристка всегда была рада исподволь “отметить разность” между собой и Ахматовой, начиная с портретной характеристики (“горбоносый профиль” vs “коротенький нос”) и завершая манерой поведения, усвоенной при общении с Гумилевым. Об Ахматовой Гумилев в мемуарах Одоевцевой говорит так: “Она была дьявольски горда…” Одоевцевой же Гумилев приказывает: “А теперь бегите за чаем!” – и за этим следует покорно-радостное: “Он прислоняется к стене и закрывает глаза, а я бегу на кухню…”
В 1983 году в Париже вышла вторая книга мемуаров Одоевцевой – “На берегах Сены” – о ее жизни в эмиграции. В апреле 1987 года в возрасте девяноста двух лет Одоевцева вернулась в Советский Союз. В ее возвращении и в появлении первого книжного издания “На берегах Невы” в Советском Союзе решающую роль сыграла Анна Колоницкая (см.: 286; это издание впервые предварялось посвящением Колоницкой). В воспоминаниях об Одоевцевой она приводит такую ее реплику: “…за то, что книга «На берегах Невы» возвращается к русскому читателю, я благодарна вам, и вы не имеете права не принять этот дар благодарности” (172, с. 16)”.
Публикация “На берегах Невы” состоялась в журнале “Звезда” (1988. № 2–5; там же потом появились “На берегах Сены”). Затем, в этом же году, – выход книги в издательстве “Художественная литература” тиражом 100 000 экземпляров и, как следствие, триумф на родине, о котором Одоевцева мечтала всю свою жизнь.
Умерла Одоевцева 14 октября 1990 года и была похоронена на Волковом кладбище в Ленинграде.
Прежде чем коротко рассмотреть “На берегах Невы” как результат работы человеческой памяти, нужно еще раз повторить, теперь уже сделав на этом акцент: за исключением двух случаев (степень близости Гумилева и Ольги Гильдебрандт-Арбениной, а также досада Гумилева на Ахматову весной или летом 1921 года) Одоевцева, кажется, ни разу в своей книге сознательно не врет. Но она многое неосознанно перевирает.
В предисловии к “На берегах Невы” Одоевцева специально подчеркнула: “Память у меня <…> прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому назад”. А в самой книге этот тезис несколько раз варьируется: “Да, я умела слушать. Не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания. И запоминать их навсегда” (фрагмент о Гумилеве); “…я «навостряю уши» – ведь слушать и запоминать слышанное одно из главных моих занятий” (фрагмент о Юрии Анненкове).
Но на самом деле память Одоевцевой была далеко не столь “фантастической”, как она сама расписывала в “На берегах Невы”. Не имея возможности, как все мы это делаем сегодня, навести нужные справки во всезнающем интернете, Одоевцева в мемуарах, разумеется, путалась и в сводках петроградской погоды конца 1910-х – начала 1920-х годов (часто), и в цитатах из стихов и прозы, иногда хрестоматийных, например из блоковской “Незнакомки” (очень часто), и в том, какие числа на какие дни недели приходились в 1918–1922 годы (почти всегда). А о том, что Одоевцева не помнила монологи своих давних собеседников “слово в слово” (или считала не зазорным их редактировать), красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что в книжной и газетной (журнальной) публикациях “На берегах Невы” один и тот же монолог мог быть сформулирован разными словами.
Однако назвать плохой память Одоевцевой язык тоже не поворачивается. Все-таки она восстанавливала события сорокалетней – сорокапятилетней давности и “в целом” (как осторожно и чуть иронически сформулировал Адамович) восстановила большинство из этих событий “верно”. Решусь скорректировать: не более неверно, чем это делает большинство мемуаристов. Человеческое сознание устроено так, что мы уже через час или два помним произошедшее с нами со значительными лакунами. Важнейшая разница между людьми состоит в том, чем они эти лакуны заполняют. Можно сознательно замещать реальные воспоминания ложными – чаще всего такими, которые по какой-либо причине нам “выгодны”. Или делать то же самое, но не отдавая себе отчета в том, что лжем (или постепенно забывая, в чем и где мы лжем). Или – вольно или невольно – опираясь на воспоминания других очевидцев событий, подменяя свои воспоминания их свидетельствами. Или же, как это делала, например, Ахматова, сознательно, усилием воли контролировать себя и пытаться “оставлять пробелы в судьбе” незаполненными, со специальной установкой на то, что воспоминания выйдут отрывочными, клочковатыми.
Как представляется, Одоевцева и в этом отношении была антиподом Ахматовой. Сознательно она выдумывала редко (в отличие от Георгия Иванова, который признавался Владимиру Маркову в письме от 18 апреля 1956 года: “Ну и провру для красоты слога…” (438, с. 29)), однако неизбежные провалы своей памяти заполняла в тексте приблизительными сведениями с легкостью необыкновенной. “Если <…> Вы вздумаете сромантизировать на наш общий с Жоржем (Ивановым. – О.Л.) счет, мы будем только польщены. Выдуманные биографии часто интереснее настоящих…” – опрометчиво (с точки зрения оценки ее собственных будущих мемуаров) наставляла Одоевцева Романа Гуля в письме от 26 сентября 1953 года (91, с. 49).
“Интереснее” – ключевое слово в этом пассаже.
“Интереснее” для Одоевцевой означало – увлекательнее, занимательнее. Этому “интереснее” она готова была принести в жертву если не все, то многое. В частности, именно забота об увлекательности книги помешала Одоевцевой пожертвовать цветистыми, с многочисленными цитатами из самих себя монологами поэтов, приводимыми в “На берегах Невы”, хотя она прекрасно понимала, что очень сильно подставляется (“Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их?”). И себя саму Одоевцева сделала в книге не только доброжелательнее, но и гораздо наивнее, чем в жизни[3], – чтобы получилось “интереснее”, чтобы читатель мог воспринять “На берегах Невы” как своеобразный “роман воспитания”: юная, неопытная во всех отношениях девушка под руководством чудаковатого, порою эгоистичного “рыцаря в панцире железном” приобщается к тайнам поэтического творчества.
В этом “интереснее” – причина и главных претензий, адресуемых книге Одоевцевой (иногда – справедливых), но и огромной и заслуженной ее популярности у широкого круга читателей.
Теперь самые любопытные читатели получают возможность взять в руки подробный путеводитель по книге “На берегах Невы” и узнать, где автор говорит правду, а где путает или приукрашивает в угоду “интереснее”.
И последнее. Работая над этим путеводителем, я решил все стихотворения, которые цитирует в “На берегах Невы” Одоевцева (кроме трех-четырех сверхизвестных), приводить в тексте целиком. Это, конечно, сильно расширило объем, но зато читатель полноценно, и не прибегая к помощи интернета, познакомится с плотным стихотворным фоном книги. Все мемуарные источники, за исключением произведений Георгия Иванова (их Одоевцева заведомо читала не только по печатным, но и по допечатным версиям), я старался цитировать по тем изданиям, которые она могла держать в руках, когда работала над первой книгой своих воспоминаний.
Текст “На берегах Невы” в нашей книге приводится с опорой на издание 1988 года, которое дополнено несколькими вставками из нью-йоркского книжного и журнального (“Звезда”) вариантов мемуаров Одоевцевой. Все эти вставки в тексте “На берегах Невы” выделены курсивом.
Благодарю за профессионализм Галину Беляеву, Дарью Сапрыкину и всю редакцию Елены Шубиной. Также хочу сказать спасибо Анне Слащевой и Андрею Устинову за подсказки и библиографические справки и Андрею Бондаренко за прекрасное оформление книги.
Олег ЛекмановИрина Одоевцева
На берегах Невы
На берегах НевыНесется ветер, разрушеньем вея…Георгий ИвановПосвящаю свою книгу Анне Колоницкой
ПредисловиеЭто не моя автобиография, не рассказ о том,
Какой я была,Когда здесь на земле жила…Нет. И для меня: “Воспоминания, как острый нож они”.
Ведь воспоминания всегда regrets ou remords[4], а я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызения совести.
Недаром я призналась в стихах:
Неправда, неправда, что прошлое мило.Оно как разверстая жадно могила,Мне страшно в него заглянуть…Нет, я ни за что не стала бы описывать свое “детство, отрочество и юность”, своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков – все это никому не нужно.
Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы.
Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать “на берегах Невы”.
Я пишу о них и для них.
О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что так или иначе связано с ними.
Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их.
Я одна из последних, видевшая и слышавшая их, я только живая память о них.
Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, – чистейшая, стопроцентная правда – и тут же делают ошибки за ошибками.
Я не клянусь и не божусь.
Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью.
Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво.
Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше Dichtung, чем Warheit?[5]
Но, положа руку на сердце, я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому назад.
Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый – до мелочей – точный ответ.
Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее.
Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой.
Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события.
Все же приведу пример моей памяти.
Как-то, совсем недавно, я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня “выживляли” большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока, к их восторгу, лев не задергал головой и не “выживился”. Но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым.
Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня.
– Что-то такое было… Мы действительно, кажется, “выживляли” льва, – неуверенно проговорил он. – Да, да! Но, скажите, откуда вам это известно?
– Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о “выживлении” картонного льва в июле 1922 года у вас на Почтамтской, и как вы впервые были с вашей француженкой в Опере на “Фаусте” и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: “Il me rappele mon Polonais!”[6]
Адамович кивнул:
– Да. Все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно – вы помните случаи из моего детства, которые я забыл, – и прибавил улыбаясь: – Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, – можете ссылаться на меня…
Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они – те, о ком я пишу, – действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими “в те дни, когда мне были новы все ощущенья бытия”, оттого что поэтов я тогда считала почти полубогами?
Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон.
Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах.
Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне, и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза.











