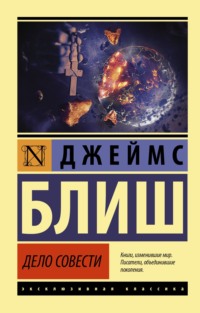Полная версия
Поверхностное натяжение
Взгляд его упал на стенной календарь – иллюстрированный, извлеченный Кливером из багажа еще по прибытии; девица на картинке смотрелась непредвиденно скромно – из-за больших блестящих пятен оранжевой плесени. Сегодня было 19 апреля 2049 года. Почти Пасха; самое наглядное напоминание, что для внутренней жизни тело – лишь покров. Тем не менее лично для Руис-Санчеса год значил ничуть не меньше, чем дата, поскольку следующий, 2050-й, будет Святым годом.
Церковь вернулась к древнему обычаю, впервые официально признанному Бонифацием VIII в 1300 году, – объявлять великое всепрощение только раз в полвека. Если Руис-Санчеса в следующем году не будет в Риме, когда отворится святая дверь, – больше на его веку такого не повторится.
«Торопись! Торопись!» – нашептывал некий внутренний демон. Или то был голос совести? Что, если грехи его уже настолько обременительны (а сам он об этом и не подозревает), что паломничество необходимо, причем жизненно. Или это он, в свою очередь, поддался греху гордыни?
Как бы то ни было, работа должна идти своим чередом. Их четверых послали на Литию – определить, годится ли планета для установки пересадочной станции, и не сопряжено ли строительство с риском для литиан или землян. Как и Руис-Санчес, остальные трое членов планетографической комиссии были в первую очередь учеными; но он-то знал, что его рекомендация будет в конечном итоге опираться на совесть, а не на таксономию.
А совесть, как и сотворение мира, негоже торопить. Ее даже не подчинишь расписанию.
Озабоченно скривившись, он буравил невидящим взглядом недочиненный комбинезон, пока из спальни не донесся стон Кливера. Тогда Руис-Санчес поднялся и вышел, оставив тамбур негромкому шипению газовых огней.
II
Сквозь овальное окно дома, отведенного Кливеру и Руис-Санчесу, открывался вид на коварно пологий склон, уходящий к едва различимой южной оконечности Нижней бухты, что составляла часть Сфатского залива. Весь берег представлял собой соленую топь – как и почти любое литианское побережье. В прилив море растекалось на добрую половину прилегающей равнины, затопляя даже самые возвышенные места, по меньшей мере, на ярд. В отлив – как, например, сейчас – на симфонию джунглей накладывался отчаянный лай земноводных рыб, зачастую доброго десятка сразу. Когда облака не застилали маленького диска луны и город представал в необычно ярком освещении, можно было углядеть растянувшийся в прыжке силуэт какой-нибудь амфибии или сигмой змеящийся в иле след литианского крокодила, что преследовал добычу чересчур резвую, но которую все равно когда-нибудь обязательно нагонит – за ничтожно малое по геологическим меркам время.
Еще дальше – обычно невидимый даже днем из-за вечного тумана – лежал противоположный берег Нижней бухты, такой же равнинный и полузатопленный, плавно переходящий в джунгли, что тянулись уже без перерыва на сотни миль к северу, до самого экваториального моря.
А из окон спальни открывался вид на город, Коредещ-Сфат, столицу гигантского южного континента. Как и у всех литианских городов, самой примечательной его характеристикой, с точки зрения землянина, была полная неприметность. Низкие домики, сформованные из набранной тут же глинистой почвы, сливались с землей, ничем не выдавая себя даже наметанному глазу опытного наблюдателя.
Большинство старых зданий были прямоугольными и без известкового раствора складывались из блоков прессованной земли. С течением десятилетий блоки утрамбовывались все плотнее и плотнее, и в конце концов, если здание становилось ненужным, оказывалось проще оставить его без толку стоять, чем сносить. Впервые земляне почувствовали себя на Литии несколько неуютно, когда Агронски пришла в голову злополучная мысль: вызваться снести одно из таких сооружений с помощью ТДХ, неизвестной литианам взрывчатки-гравиполяризатора, взрывная волна от которой, распространяясь в заданной плоскости, как масло резала даже стальные балки. Огромный толстостенный пакгауз, о котором шла речь, стоял вот уже три литианских века – 312 земных лет. Взрыв произвел чудовищный грохот и учинил массовый переполох; но, когда пыль рассеялась, пакгауз стоял, даже не покосившись.
Новые строения бросались в глаза при ярком солнце; дело в том, что примерно полвека назад литиане начали применять в строительстве свои широчайшие познания в керамике. Такие дома могли принимать совершенно произвольные квазибиологические формы – не то чтобы совсем аморфные, но и ни на что конкретное не похожие; больше всего они напоминали загадочные конструкции из вареных бобов, некогда грезившиеся земному художнику Сальвадору Дали. Будучи сооружен по вкусу владельца, ни один дом не напоминал соседних – но при этом ухитрялся отражать характер литианского общества в целом и той земли, от которой произошел. Впрочем, и новые дома ничем не выделялись бы на фоне джунглей, не будь они покрыты глазурью, которая ослепительно блестела – в редкие солнечные дни и если смотреть под правильным углом. При первых наблюдениях с воздуха именно этот переменчивый блеск подсказал землянам, где в бесконечных литианских джунглях кроется разумная жизнь. А что разумная жизнь на Литии есть, никто и не сомневался: планета испускала мощнейшие радиоимпульсы, которые улавливались далеко в космосе.
Направляясь к гамаку Кливера, Руис-Санчес в десятитысячный, по меньшей мере, раз бросил взгляд на город. Для священника Коредещ-Сфат был все равно что живое существо; ни разу столица не представилась ему одинаковой. Руис-Санчес находил город исключительно прекрасным. А также исключительно странным – уж насколько непохожи друг на друга земные города, но этот отличался от них от всех.
Он проверил у Кливера дыхание и пульс. Те оказались необычно учащенными – даже для Литии, где высокое парциальное давление атмосферного углекислого газа повышало у землян «пэ-аш» крови и стимулировало дыхательный рефлекс. Тем не менее священник решил, что опасности это не представляет – пока не увеличилось потребление кислорода. Пусть лучше Кливер спит, хоть и беспокойно; нечего тревожить зря.
Конечно, если вдруг в город забредет дикий аллозавр… Но это ничуть не более вероятно, чем если бы в самый центр Нью-Дели забрел дикий слон. Возможно, спору нет, возможно – только почти никогда не случается. А других опасных животных – по крайней мере, способных вломиться в запертый дом, – на Литии просто нет. Даже крысам – точнее, весьма многочисленным яйценосным сумчатым, здешнему аналогу крыс – в керамический дом не проникнуть.
Руис-Санчес сменил воду в графине, поставленном в нишу подле изголовья кливеровского гамака, вернулся в тамбур и облачился в сапоги, плащ и непромокаемую шляпу. Стоило отворить каменную дверь, и волной нахлынули звуки ночной Литии, а порыв морского ветра вместе с клочьями пены принес характерный галогенный запах, традиционно именуемый соленым. Моросил мелкий дождь, и каждый фонарь был окружен пляшущим ореолом. Вдалеке медленно скользил по воде огонек. Возможно, колесный рейсовый каботажник направлялся на Иллит – огромный остров посреди Верхней бухты на границе Сфатского залива и экваториального моря.
Выйдя наружу, Руис-Санчес повернул штурвальчик запора, и с трех сторон двери выдвинулось по засову. Достав из кармана плаща кусок мягкого местного мела, он вывел на специальной табличке под козырьком литианские символы, означающие «Здесь больной». Этого должно быть достаточно. Если кто захочет войти, дверь откроется простым поворотом колеса (о замках на Литии и слыхом не слыхивали), но литиане – также будучи животными прежде всего общественными – правила поведения соблюдали не менее неукоснительно, чем законы природы.[5]
Заперев дом, Руис-Санчес направился в центр города, к Почтовому дереву. Асфальт влажно блестел, отражая желтые овалы окон и яркий белый свет далеко отстоящих уличных фонарей. Иногда в полумраке мелькал похожий на кенгуру-переростка двенадцатифутовый литианин, и тогда они с Руис-Санчесом обменивались исполненными откровенного любопытства взглядами; но по большей части в это время улицы были пустынны. Вечерами литиане предпочитали сидеть дома – и Руис-Санчес не имел ни малейшего представления, чем они там занимаются. В овальных окнах, мимо которых шлепал в резиновых сапогах Руис-Санчес, то и дело мелькали силуэты – поодиночке, по двое, по трое. Иногда казалось, что за окнами идет оживленная беседа.
О чем бы это, интересно?
Прекрасный вопрос. На Литии не было ни преступности, ни газет, ни телефонной связи, ни искусств (которые можно было бы четко отделить от ремесел), ни массовых увеселений, ни наций, ни игр, ни религий, ни спорта, ни праздников. Не могут же литиане каждую минуту бодрствования обмениваться знаниями, вести беседы на философско-исторические темы, строить планы на завтрашний день!.. Или могут? Возможно, представилось вдруг Руис-Санчесу, они просто набиваются в эти свои дома-горшки, подобно маринованным огурцам, вялые и дряблые?.. Но не успела еще эта мысль внятно оформиться, как взгляд иезуита упал на очередное освещенное окно, силуэты за которым мельтешили весьма оживленно…
Порыв ветра швырнул в лицо холодные капли дождя. Руис-Санчес машинально ускорил шаг. Если ночь выдастся особенно ветреная, Почтовое дерево будет голосить напропалую. Вот уже оно высится перед ним, похожий на секвойю исполин – близ устья реки Сфат, которая змеится, свивая громадные кольца, в глубь континента, где впадает в Глещтъэк-Сфат, то есть в Кровавое озеро, угрюмо перекатывающее могучие валы.
Над речной долиной гудели ветры, и Дерево покачивалось им в такт, вибрировало едва-едва, но этого было достаточно. Стоило Дереву только шелохнуться, как корневая система его, пролегающая подо всем городом, возбуждала колебания в кристаллическом скальном основании, на котором Коредещ-Сфат покоился с незапамятных времен – примерно с тех же, что Рим на своих семи холмах. Кристаллические скальные породы отвечали на давление мощным импульсом радиоволн – принимаемых не только повсюду на Литии, но и далеко в космосе. На корабле Комиссии импульсы эти удалось засечь, когда Альфа Овна, солнце Литии, было всего лишь яркой точкой впереди по курсу, – и четверо комиссионеров переглянулись, а в глазах у них затеплилась искорка понимания.
Вообще-то, импульсы представляли собой чистый шум. Как литиане ухитрялись его модулировать – причем для передачи не только информационных сообщений, но и позывных своей удивительной навигационной сети, сигналов точного времени и многого другого, – для Руис-Санчеса был сплошной темный лес, все равно что аффинная теория; хоть Кливер и говорил, что на самом-то деле все проще пареной репы, стоит только раз понять. Вроде бы (по словам того же Кливера) разгадка крылась где-то в физике полупроводников и твердого тела; тут земляне литианам и в подметки не годились.[6]
Ряд свободных ассоциаций очередной раз прихотливо вильнул, и Руис-Санчесу, к немалому его удивлению, вспомнился теперешний «дуайен» земной аффинной теории, который подписывал свои труды Х. О. Петард (притом что настоящее имя его было Люсьен Дюбуа, граф Овернский). Впрочем, тут же осознал священник, ассоциация была не такой уж и вольной: граф олицетворял фактически полное отчуждение современной физики от повседневного, данного в ощущениях человеческого опыта. Графский титул – не более чем пустой звук в нынешние времена, а то и менее – передавался в семье Дюбуа как привычная приставка к фамилии, хотя политическая система, в рамках которой титул был некогда пожалован, давно отмерла, пала очередной жертвой передела Земли в рамках «катакомбной» экономики. Гордиться следовало бы скорее именем, чем титулом, ибо, углубись вдруг граф в генеалогические дебри, он мог бы отследить цепочку своих прославленных предков до XIII века включительно, когда в Англии вышло рукописное «Наставление Люсьена Уайчема в вопросах магии».
Наследие высокодуховней некуда – но Люсьен теперешний, католик-вероотступник, являл собой фигуру скорее политическую (притом что при катакомбной-то экономике политика как таковая, можно сказать, вымерла как вид): плюс ко всему прочему он носил звание Канарского прокурора – звание, бессмысленность которого, если вдуматься, тут же становилась очевидной, но зато позволявшее уклоняться от еженедельных общественных работ. На деленой-переделеной, изрытой вдоль и поперек Земле подобные таблички встречались сплошь и рядом – как правило, в непосредственной близости от крупных состояний, лежавших нынче мертвым грузом, раз биржевые спекуляции отошли в прошлое, и единственное, чем отдельно взятый простой смертный мог хоть как-то повлиять на собственное благосостояние, это вложиться в инвестиционный фонд. Былым сливкам общества оставалась единственная отдушина – безудержное потребление; причем безудержное настолько, что случись поблизости сам старик Веблен – и тот усомнился бы в правильности своих представлений о потреблении. Попытайся они хоть как-то влиять на экономику, их тут же подвергли бы жесточайшему остракизму – если и не сами господа вкладчики, то уж суровые блюстители подземных городов (где и блюсти-то, собственно, было уже почти нечего) всенепременнейше.[7]
Не то чтобы граф тунеядствовал. Последнее, что о нем было слышно – он собирался неким совсем уж эзотерическим образом дорабатывать уравнения Хэртля (то самое описание пространственно-временного континуума, которое, поглотив преобразования Лоренца-Фитцджеральда точно так же, как некогда теория Эйнштейна поглотила Ньютонову, сделало возможным межзвездные перелеты). Изо всего этого Руис-Санчес не понимал ни единого слова; но, с усмешкой отметил он, наверно, это действительно проще пареной репы – стоит только раз понять.
В конце концов, в ту же категорию попадало практически все человеческое знание. Одно из двух: или все проще пареной репы, стоит только раз понять, или это чистой воды вымысел. Даже тут, в пятидесяти световых годах от Рима, Руис-Санчес как иезуит знал о человеческом знании нечто такое, что Люсьен Дюбуа, граф Овернский, давно забыл, а Кливер так никогда и не узнает: любое знание проходит в своем развитии через обе стадии – возвещает о своем явлении из хаоса и вновь возвращается в хаос.
В процессе – установление тончайших различий, и чем дальше, тем тоньше.
В результате – бесконечная череда катастроф теории.
В остатке – вера.
Когда Руис-Санчес ступил под теряющиеся в вышине своды полости, выжженной в основании Почтового дерева, весь зал, смахивающий на поставленное тупым концом книзу гигантское яйцо, кишмя кишел литианами. Впрочем, сходства с земным телеграфным или телефонным узлом не было ни малейшего.
По всему периметру основания «яйца» неустанно сновали высокие фигуры литиан: заскакивали внутрь, выскальзывали наружу сквозь неисчислимые отверстия-двери, менялись местами, кружили, как переходящие с орбиты на орбиту электроны. Но переговаривались они так тихо, что на фоне множества голосов слышался шум ветра в исполинских ветвях высоко над головой.
Мельтешение фигур ограничивалось, как волнорезом, высоким черным полированным ограждением – явно вырезанным из флоэмы самого Дерева. За барьером (откровенно символическим – и почему-то напомнившим священнику щель Энке в кольцах Сатурна) выстроились в довольно редкий круг несколько литиан и мерно, не сбиваясь ни на секунду, принимали и передавали сообщения; с работой они справлялись безупречно – судя по тому, как безостановочно мельтешили фигуры с внешней стороны барьера, – и без видимого усилия, полагаясь только на память. Иногда кто-нибудь из их числа оставлял рабочее место и отправлялся о чем-то переговорить к одному из множества столиков, расставленных по ту сторону барьера концентрическими кругами, причем чем ближе к плавно понижающемуся центру, тем разреженней, будто бы на вывернутом наизнанку колесе смеха, – а потом возвращался к черному барьеру или же садился за стол, а на пост вместо него заступал предыдущий хозяин стола. Пол понижался, столов становилось меньше и меньше, а в самом центре зала стоял один-единственный пожилой литианин – зажав ладонями ушные раковины, что находились сразу за тяжелыми челюстными суставами, опустив на глаза мигательные перепонки, являя миру только носовые впадины и ямки инфракрасных рецепторов над ними. Он молчал, и с ним никто не заговаривал, но все бурление водоворота за черным барьером являлось очевидным следствием этой абсолютной статичности.[8]
Руис-Санчес замер, пораженный до глубины души. Видеть Почтовое дерево внутри ему не доводилось еще ни разу в жизни – до сегодняшнего дня связью с Микелисом и Агронски, коллегами-комиссионерами, заведовал Кливер, – и теперь священник понятия не имел, что ему делать. То, что он видел, походило скорее уж на парижскую биржу, чем на центр связи в привычном понимании слова. Казалось невероятным, чтобы каждый раз, когда поднимается ветер, у стольких литиан срочно возникала надобность отправить какое-нибудь личное сообщение; столь же немыслимым представлялось, чтоб у литиан, с их стабильной экономикой всеобщего благосостояния, мог существовать сколь угодно отдаленный аналог фондовой биржи. Как бы то ни было, а выбора, похоже, не оставалось – ныряй теперь в это мельтешение, пробирайся к черному полированному барьеру и проси кого-нибудь из литиан с той стороны попробовать еще раз связаться с Агронски или Микелисом. В худшем случае, подозревал Руис-Санчес, ему просто откажут или не станут даже слушать. Он сделал глубокий вдох. В тот же миг левую руку его, от локтя до плеча, цепко облапила широкая четырехпалая ладонь. С совершенно неприличным фырканьем исторгнув из легких набранный было воздух, священник крутанулся волчком и снизу вверх изумленно уставился в участливо склонившееся лицо литианина. Под внахлест сведенными, словно капканные скобы, челюстями выделялась совершенно индюшачья, но нежно-аквамаринового цвета бородка, которая резко контрастировала с серебристо-сапфировым рудиментарным гребнем, пронизанным розоватыми, как тычинки фуксии, венами.
– Руис-Санчес вы, – на своем языке проговорил литианин. (Из четверых землян, только имя священника литиане умудрялись произносить, не коверкая.) – Узнаю вас по вашей накидке я.
Это была чистой воды случайность. Любого землянина, вышедшего под дождь в плаще, приняли бы за Руис-Санчеса, потому что, по мнению литиан, один Руис-Санчес всегда облачался примерно одинаково, что дома, что на улице.
– Да, это я, – отозвался Руис-Санчес, на всякий случай внутренне подобравшись.
– Штекса я, металлург; консультировали меня по химии вы, по медицине, о цели вашей миссии и еще по нескольким вопросам, незначительным.
– А… Конечно, конечно. То-то мне показался знакомым ваш гребень.
– Большая честь для меня. Раньше вас здесь не видели мы. Желаете поговорить с Деревом?
– Да, – благодарно отозвался Руис-Санчес. – Действительно, прежде мне тут бывать не приходилось. Вы не могли бы объяснить, что делать?
– Мог бы, но не поможет это, – произнес Штекса, склонив голову так, что совершенно чернильные зрачки его смотрели теперь прямо в глаза Руис-Санчесу. – Ритуал соблюдать потребно некий, очень сложный, пока в привычку не войдет. Обучаемся этому с детства мы; полагаю я, не хватит координации вам, чтобы с первой попытки вышло. Если позволите, передать сообщение за вас мог бы я…
– Буду премного обязан. Я должен связаться с нашими коллегами, Агронски и Микелисом; они в Коредещ-Гтоне, на северо-востоке, градуса тридцать два на восток и тридцать два на север…
– Да, у озер Малых отметка реперная вторая; город горшечников это, хорошо его знаю я. И что хотели бы передать вы?
– Чтоб они вылетали к нам, в Коредещ-Сфат; наше время на Литии подходит к концу.
– И меня касается это, – заявил Штекса. – Но передам я.
Литианин метнулся в водоворот фигур, и его тут же бесследно засосало; а Руис-Санчес остался стоять, в очередной раз благодаря Всевышнего, что Тот надоумил раба Своего неразумного учить безумно сложный литианский. Двое из четверых комиссионеров выказывали поистине прискорбное пренебрежение этим всепланетным языком; кливеровское: «Пускай учат английский» – успело стать классикой. Отнестись к подобному высказыванию сочувственно Руис-Санчес ну никак не мог – с учетом того, что его родным был испанский, а из пяти языков, которыми он владел свободно, больше всего нравился ему западный «хохдойч».
Агронски избрал позицию несколько более утонченную. Не в том дело, говорил он, что в литианском какое-то особенно сложное произношение (утруждать нёбо приходится явно не сильнее, чем в арабском или русском), просто по большому счету «невозможно толком разобраться, что составляет сущностную, неформализуемую основу столь чужого языка, так ведь? По крайней мере, за то время, что мы здесь?»
Микелис предпочитал отмалчиваться; он просто поставил себе задачу научиться читать по-литиански, и если таким образом он выучится заодно и говорить, ничего удивительного в том не будет, ни для него самого, ни для коллег. Ко всему на свете Микелис подходил примерно так же, основательно и без излишнего теоретизирования. Что до подхода, практиковавшегося Кливером или Агронски, то в глубине души Руис-Санчес полагал, что включать в состав комиссии людей со взглядами столь ограниченными едва ли не преступно. Чтобы понять незнакомую культуру, язык абсолютно необходим; если начинать не с языка, то, интересно, с чего же?
Что же до склонности Кливера именовать литиан «змеями», то мыслями по этому поводу Руис-Санчес мог бы поделиться в лучшем случае со своим далеким духовником.
А ввиду того, что открылось его взору в яйцевидном зале, – что теперь прикажешь думать о том, как выполнял Кливер свои обязанности связиста? Разумеется, он не мог ничего через Дерево ни принять, ни передать, что бы там по ходу дела ни говорил. Весьма вероятно, он и к Дереву-то ни разу не подходил ближе, чем Руис-Санчес сегодня. Нет, само собой разумеется, как-то Кливер должен был с Микелисом и Агронски связываться – запрятал там в багаже где-нибудь передатчик и… Да нет, какой еще передатчик. Руис-Санчес, конечно, не физик; но и ежу понятно, что для потенциальных радиолюбителей Лития сущий ад – раз эфир на всех частотах забит чудовищной мощности импульсами, исторгаемыми Деревом из кристаллического утеса. Нет, Руис-Санчес определенно начинал чувствовать себя как-то неуютно.
Из снующих вокруг фигур выделился Штекса – не гребнем своим, который успел стать таким же величественно-пурпурным, что и у большинства присутствующих, а тем, как целеустремленно двигался прямо к землянину.
– Сообщение ваше отослал я, – сразу произнес он. – В Коредещ-Гтоне зафиксировано оно. Но других землян нет там. Несколько дней уже в городе не было их.
Невозможно! Если верить Кливеру, он говорил с Микелисом не далее чем вчера.
– Вы уверены? – осторожно поинтересовался Руис-Санчес.
– Вне всяких сомнений. Пуст стоит дом, предоставленный им. Исчезли многочисленные вещи их. – Высокая фигура развела четырехпалыми руками – вероятно, изображая сочувствие. – Дурное это, кажется, известие. Неприятно мне принести его вам. Исполнены добра были известия, что при первой встрече принесли мне вы.
– Спасибо большое. Не стоит беспокоиться, – рассеянно проговорил Руис-Санчес. – Нельзя же спрашивать с вестника за принесенное им послание.
– Все же, кое за что отвечает вес пик; по крайней мере, таков обычай наш, – отозвался Штекса. – Взаимосвязаны поступки все. В результате обмена нашего в проигрыше вы, насколько понимаю я. Проверено уже, что великого добра исполнены были о железе вести ваши. Удовольствие доставило бы мне продемонстрировать, как применили мы знание это, особливо ввиду вестей дурных, что принес вам ответно я. Не соблаговолите ли, коли не воспрепятствует то работе вашей, посетить жилище мое, дабы вопрос сей подробнее освещен был? Возможно ли это?
Руис-Санчес сурово подавил всколыхнувшееся было возбуждение. Наконец-то впервые появился шанс хоть что-то разузнать о личной жизни литиан – и через это, возможно, даже получить некоторое представление об их морали; о роли, что уготована им Господом в вечной драме борьбы добра со злом. А пока представления такого не получено, откуда Руис-Санчесу знать – вдруг литиане только притворяются добродетельными в этом своем Эдеме; чистый интеллект, мыслящие машины из органики, УЛЬТИМАК и хвостатые – и бездушные притом.
Но: дома у него оставался больной человек. Вряд ли, конечно, Кливер до утра проснется. Успокоительного ему закачано из расчета чуть ли не по 15 миллиграммов на килограмм веса. Правда, больные – все равно что дети малые, и закон им не писан, причем с упорством, достойным лучшего применения. Если могучий организм Кливера как-то переборет эту дозу – или если случится анафилактический шок, что вполне вероятно на ранних стадиях заболевания, – тогда надо быть с физиком рядом. По крайней мере, звук человеческого голоса Кливеру будет необходим – на планете, которую тот терпеть не мог и которая (мимоходом, едва ли заметив, что там вообще кто-то был) свалила его с ног.