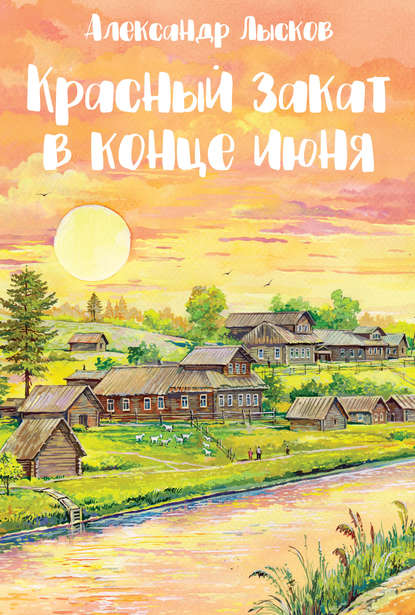Полная версия
Тени исчезают в полдень.Том 4
Но при воспоминании об Иринкиных губах опять сдвинул брови: черт, губы-то у нее в самом деле получше, посочнее, что ли…
– Пей, Митенька, – сказала Степанида и поставила на стол полную кружку варенца. И осторожно опять спросила: – А женщина эта кто такая?
– Ну, мать… – недовольно буркнул Митька, все еще стоя у зеркала. – Хорошая женщина.
– Кто же она? Где работает?
Митька не ответил. Степанида почувствовала, что ее вопросы не понравились сыну, проговорила обиженно:
– От матери-то чего таиться? Мать больше тебя прожила, кое в чем разбирается…
– Сам я как-нибудь разберусь, – сказал Митька сухо.
– В молодости все так думают… Да… женишься раз, а плачешь целый век…
– Слушай, мать… Отвяжись, ради бога! Ни о какой женитьбе и мысли не держу пока.
Степанида сложила руки на груди, поджала губы.
Она чувствовала и знала – сын любил ее, и поэтому не понимала, отчего же он так бывает груб порой, почему его так раздражают иногда ее слова, ее забота и нежность…
А все было очень просто. Вожжи, которыми Фрол отхлестал когда-то жену, до сих пор висели на стене. Фрол убирал их только на время побелки. Но едва Стешка кончала обихаживать дом, он молча вешал их обратно.
Со временем Стешка примирилась с этим своеобразным украшением дома, со своей участью и постепенно оставила попытки «сделать вид», как она говорила, а после рождения сына вообще распрощалась со своими честолюбивыми планами…
– Гляди, береги его, – сказал Фрол жене, как только она оправилась после родов.
– Что ты! Пылинке не позволю сесть, – ответила Стешка.
И не позволяла. Сын рос, держась за материну юбку…
Когда он подрос, стал кое-что соображать, Стешка принялась его воспитывать. Фрол всегда ходил погруженный в какие-то свои хмурые думы, месяцами словно забывал о сыне и жене. Стешка лишь радовалась этому…
Из теплого воска можно вылепить любую фигуру. И Стешка лепила осторожно, незаметно, неустанно. И сказки сочиняла ему, в которых герои любыми способами, не останавливаясь ни перед чем, добивались богатства и достатка, и песни колыбельные пела про добрых молодцев, достигающих удачи хитростью, обманом, подкупами…
Когда Митьке исполнилось пять лет, она купила ему глиняный бочонок-копилку, позвала на огород и сказала:
– Вот копилочка, а вот тебе денежка. Брось-ка денежку в эту щелку.
Митька взял пятак и опустил в копилку. Монета глухо звякнула внутри бочонка.
– Ну? – спросила Стешка.
– А что «ну»? – в свою очередь, спросил Митька.
– Как звенит, слышишь?
– Ага…
– Вот так… Когда появится у тебя денежка – найдешь ли, сбережешь ли на чем, – вот сюда бросай. Потихоньку накопится мно-ого. Вынешь – купишь что-нибудь. Что тебе надо?
– Куклу, – сказал Митька.
– Зачем тебе кукла?
– А дядьки Никулина Зинка все плачет и плачет. Я отнесу ей…
– Вот это зря. Ты принесешь – они посмеются: «Вот дурачок какой…» Ты лучше соберешь денежек да накупишь конфет. Мно-ого, целый мешок. Только рассказывать никому не надо. Зароем давай вот тут ее. И отцу не говори. Появится денежка – приди тихонечко сюда и сбрось. Сбросишь – и прикрой копилку… А придет время, и люди удивятся: «Откуда у Митеньки столько денег?»
Теперь у Митьки была своя тайна. Мать помогала ему охранять ее.
По мере того как Митька подрастал, Степанида незаметно меняла свои приемы и методы воспитания. Что же, она была умелым воспитателем.
Учился Митька до третьего класса плохо, едва-едва не попадал во второгодники. Когда начал ходить в четвертый, Степанида сказала:
– А учиться, Митенька, надо старательно. На «хорошо» да на «отлично».
– Сама поучилась бы на «отлично»-то… Памяти нету у меня.
– А все-таки надо. Ученым да грамотным-то вон как хорошо. Смотри на Захара Большакова. Председатель, всегда в кошевке ездит да распоряжается. А неученые навоз коровий чистят. Соображаешь?
Митька молчал, пытаясь что-то сообразить. Степанида зорко наблюдала за учением сына, и он помаленьку выправился.
Оказалось, что способностей Митьке не занимать. Уже четвертый класс он окончил круглым отличником и по весне принес домой похвальный лист.
– Добро. Молодец, – сказал Фрол, потрепал сына по голове, отвернулся и тут же забыл.
Неся домой похвальный лист, Митька ожидал не только похвал, но и восторгов и, конечно, подарков. А тут всего два равнодушных слова… На ресницах у Митьки нависли слезы.
– Ничего, ничего, сынок, – успокоила его Степанида. – Отец-то наш неудачник. Не везет ему в жизни. Все на конюшне да на конюшне. А много ли там заработаешь? Видишь, как живем – не шибко в большом достатке… Вот и загруб сердцем… Зато уж ты у меня в люди выйдешь. Ты у нас одна надежда…
Говоря так, Степанида преследовала один результат, а добилась другого. Если раньше Митька сторонился угрюмого отца, поглядывал на него с робостью, испугом, то теперь незаметно переменился, в ребячьих глазенках при виде отца вспыхивали все чаще не то жалость, не то робкое участие, нежность.
– Ты чего, Дмитрий, такой печальный? – спросил однажды Фрол, видя, что сын все трется вокруг него, не осмеливаясь заговорить.
– Да мне тебя жалко, – признался Митька.
– Вот как? – Фрол нахмурил брови. – А чего меня жалеть?
– Да как же… Ты все на конюшне да на конюшне. Ну, ничего! Я-то уж в люди выйду.
Фрол нахмурился еще больше, а Митька подумал: отец не верит, что он, Митька, выйдет в люди, потерял всякую надежду. И ему захотелось как-то облегчить состояние отца, обрадовать его чем-то.
– Вот увидишь – выйду. Учусь-то я на «отлично». Я накуплю тебе десять или двадцать костюмов сразу. А то вон в каком облезлом ходишь. Да и сейчас… сейчас я тебе денег дам… На пиджак, наверное, хватит.
Фрол удивленно поднял голову.
– Да нет, ты не думай, что украл, – поспешно проговорил Митька. – Я накопил. У меня копилка есть. На огороде зарыта…
– А ну, пойдем! – Фрол грузно поднялся со стула.
– Пойдем, пойдем! – радостно воскликнул Митька.
На огороде они выкопали из земли позеленевший бочонок. Фрол взял его в руки и тюкнул камнем. Бочонок развалился. На колени Фролу дождем высыпались пятаки, гривенники, полтинники, тоже позеленевшие, ослизлые от сырости…
Митька ждал благодарности от отца, но Фрол схватил его за руку, потащил в избу. Там он ткнул Митьку в глубь комнаты, бросил на стол горсть позеленевших монет, грозно спросил у Степаниды:
– Эт-то что? Что это, спрашиваю?!
Лицо Фрола было перекошено от гнева. Митька смотрел на отца, не понимая, что с ним. Он смотрел на испуганную, прижавшуюся в угол мать и тоже не мог сообразить: чего она так испугалась?
– Ну… что же, – проговорила Степанида жалко и растерянно. – Ну, забавлялся ребенок…
– Забавлялся?! Это – забава?! – ткнул Фрол в рассыпанные по столу пятаки и гривенники. И прибавил угрожающе: – Л-ладно! Это не пройдет тебе так…
Фрол повернулся к сыну. Митька испугался, отпрянул к самой стене.
– Выйдешь, значит, в люди? – спросил он чужим, нехорошим голосом. – Не так в люди-то выходят, дурак…
Сгреб со стола монеты и выбросил их в окно, в разросшийся под окном бурьян.
Митька не знал, выполнил ли отец свою угрозу, и если выполнил, то как. Но после этого случая мать недели две ходила мрачная, неразговорчивая, пришибленная какая-то. Митька хотел обо всем расспросить ее, но не решался. Когда мать немного пришла в себя, поинтересовался только:
– А почему отец дураком назвал меня?
– Так все потому же, сыночек… Огруб он, не верит уже ни во что. А ты не обижайся. Пусть тебя считают дурачком, а ты не будь простачком.
…Потом Степанида часто повторяла ему эту присказку.
После случая с копилкой она не поступилась своей целью. Каждое событие в деревне, каждый случай она освещала сыну особым светом. Покупал кто-нибудь обнову – она говорила: «Видишь, умеют люди жить…» Случалось у кого несчастье – она усмехалась: «Дуракам-то и посередь поля тесно… Сделал бы вот так-то, и все обошлось бы. С умом жить надо…» Приезжал в колхоз кто-нибудь из района – Степанида обязательно говорила сыну: «Видишь, с портфелем похаживает. Не житье, а сплошной праздник…»
И Митька волей-неволей начинал мыслить так же. Отец по-прежнему был хмур и неразговорчив, мать добра и ласкова.
Однако чем взрослее он становился, тем ярче проступала его неуемная, озорная и щедрая натура. Он мог, например, до хрипоты спорить, что ему за какую-то работу начислено меньше, чем положено, на столько-то сотых трудодня, и тут же вызывался безвозмездно, ради интереса, как он объяснял матери, помочь кузнецу отремонтировать десяток-другой борон. И помогал день, два, три… Он мог, например, сегодня внимательно слушать наставления матери, как поступить в том или другом случае с большой выгодой для себя, а завтра сделать совсем наоборот. А на ее укоры и неодобрительное покачивание головы небрежно отмахивался: «А-а, ладно…»
А потом все чаще стал грубить матери, покрикивать на нее, огрызаться. Но каждый раз, когда нагрубит, примолкнет и день-другой ходит виноватый…
– Вот видишь, сынок… – укоризненно говорила мать, собираясь начать какой-нибудь разговор.
Но он обычно прерывал ее:
– Хватит, мама! Сам не маленький уж, понимаю…
Что он понимал, Степанида так и не могла уразуметь. И все чаще беспокоили ее невеселые думы: не напрасно ли она потратила столько сил на Митьку, не впустую ли?..
Подошло время идти Митьке в армию. Степанида проводила его с той же беспокойной мыслью – не впустую ли?
Из армии Митька вернулся бугай бугаем – рослый, плотный, чубатый. Спорол погоны с танкистскими эмблемами, стал работать трактористом. Степанида внимательно наблюдала за сыном, но теперь боялась почему-то давать ему какие-либо советы.
А Митька принялся ухлестывать за колхозными девчатами. И вроде никому не отдавал предпочтения, бродил по деревне сразу со всеми, как петух с беспокойной стаей куриц. Только Ирины Шатровой никогда не было в этой стае. Степанида почему-то заметила это. Может, потому, что ей казалось: Митька, встречая иногда внучку старика Анисима, поглядывает на нее приценивающимся взглядом. «Ну и пусть, – думала она. – Девчушка, по всему видать, не сплошает в жизни. Сейчас, правда, пустяками занимается, цветочки под окнами садит… Да ничего, подрастет – поумнеет. И Захар, кажется, в любимчиках держит ее. Он откроет ей дорогу в жизнь…»
Но совершенно неожиданно все ее надежды испарились в одну секунду, как испаряется дождевая капля, упавшая в жаркий костер. Однажды, возвращаясь поздним вечером с поля, она услышала в придорожных кустах какой-то шорох. Сперва Степанида испугалась. Мало ли чего… Ночь темная, оборванцы-нищие в деревню захаживают… И потом обомлела вся, но уже не от страха, а от чего-то другого.
– Митя, Митенька… – прохныкал в кустах голосишко Зинки Никулиной. – Что же дальше-то будет? Ведь беременная я…
– Тихо ты! – прикрикнул Митька. – Идет по дороге кто-то…
Степанида прошла мимо как пьяная… «Вот тебе и Зинка-тихоня! Ох она, сучка тонконогая!» – думала Степанида, ощущая желание вернуться, схватить ее за волосы, вытащить на дорогу и растоптать в лепешку, растереть…
Несколько дней она бросала на Митьку гневные взгляды. Но Митька не замечал их, был по-прежнему весел и беспечен. Тогда она не вытерпела и спросила:
– На Зинке-то… жениться, что ли, думаешь?
Митька вздрогнул, залился краской.
– Ты… откуда знаешь… про Зинку?
– От матери что скроется?
Митька опустил голову, отвернулся. Чувствуя, что мать ждет ответа, промолвил:
– Да нет, не собираюсь. Не тот товар.
Заходило сердце у Степаниды от неуемной радости. Не напрасно, не впустую истратила она столько сил на воспитание сына. Вместе с молоком, вместе с ласками сумела она-таки передать ему что-то свое, затаенное. Пусть не в такой мере, как хотелось, но сумела, сумела…
– Сыночек! – воскликнула она. – Это правильно ты. Всякая девка для своего жениха родится. А ты свою не отыскал еще, не отыскал… Такую ли тебе надо! Они, Никулины-то, вечно щи лаптем хлебали…
– Ну, понесла… – недовольно буркнул Митька.
– Может, помочь тебе… распутаться с Зинкой? – не помня себя от радости, спросила Степанида.
– Сам уж я как-нибудь!..
– Ничего, я помогу, помогу! Тихонечко, незаметно. Уж я позабочусь, чтоб… сама убралась из деревни да никогда не вернулась.
– А не много ли, мать, не много ли берешь на себя? – недоверчиво спросил Митька. – Как это убралась, да еще сама?
– Я приметила – стыдливая она. Это хорошо.
– При чем тут ее стыдливость?
– Не захочет сгореть от стыда – уедет.
– Ну?
– Да, Митенька! – ласково воскликнула Степанида. – Чего допытываешься, все равно это тебе не шибко понятно будет. Да и зачем оно тебе, такое понятие? Ты только не печалься. Ни об Зинке, ни об… ее дите. А чей он, кто знает?! Мужиков полна деревня! А Зинка еще по бригадам ездит, книжки развозит… Я так сделаю, что, ежели сама признается, чей ребенок, – не поверят ей…
– Да ну тебя, мать. Придумает тоже. Ничего не надо, – сказал Митька. Сказал, однако, вяло, нерешительно и торопливо, чтоб закончить неприятный для него разговор.
А Степанида, встретив как-то Устина, оглянулась, нет ли кого поблизости, проговорила:
– Устин, помоги в беде. Век благодарить буду…
– Что за беда такая стряслась? – глянул Устин на Степаниду черным глазом.
– Будто уж и не знаешь! Я толковала с Пистимеей, она обещала с тобой поговорить… Для того ли воспитывала сына? Ночей не спала, ветру дунуть не давала… Для этой ли чумазой Зинки такого парня вырастила?
– Та-ак! – И Устин крякнул. – Спарились уж, что ли, голубки? Не замечал.
– И я не замечала. И я… Зашло у них недалеко вроде. Так ведь долго ли? А чем глубже, тем оно туже будет…
– А почему, если спросить… ко мне ты? Я-то что, силой их разведу? Что я смогу тут?
– Устин, – задышала беспокойно Степанида, – уж я догадываюсь, чего ты можешь, чего нет. И Пистимея обещала потолковать с тобой, попросить, чтобы побыстрей ты… А ты… время идет, а ты ничего такого…
– Да что я должен делать? – прямо и насмешливо спросил Устин.
– Зачем уж эдакие вопросы? – отвела Стешка глаза в сторону. – Мы обо всем ведь с Пистимеей обговорили, все прикинули. Стыдливая она, Зинка, молоденькая. Не выдержит, уедет. Далеко если, то хорошо. А недалече – так Пистимея, дай ей Бог здоровья, обещала подумать об Зинке дальше. Чего уж… Bсe ведь знаешь.
– Ничего я не знаю, – холодно ответил Устин. – Ступай, а то приметит еще Фролка. А Митьку сама держи.
Степанида так и не поняла, что это значит – отказ или обещание в помощи. Держать сына, однако, надобности не было. Вечерами он уходил из дому все реже и реже, а потом вообще перестал бывать на гулянках.
Несколько раз Степаниде попадалась на глаза растерянная, с припухшими веками Зинка. Она бросала на нее странные взгляды, будто собиралась подбежать, уткнуться в плечо и зарыдать. На всякий случай Степанида поднимала на Зинку холодные, осуждающие глаза и проходила мимо. Проходила и думала: «Перетянула, видать, пузо-то. Ишь, не заметно ничего…»
Потом младшая дочка Антипа Никулина уехала из деревни. Все говорили – от стыда за отца дочери съехали из родительского дома. «Клашка, может, и из-за отца, – думала Степанида, – а Зинка-то знаю из-за чего, от какого стыда…»
Вскоре после этого, встретив Устина без людей, Степанида сказал:
– Вот уж спасибо тебе! Вот уж спасибо!
– Здорово живешь! – небрежно промолвил Морозов. – За что это?
– Да уж догадываюсь. Догадываюсь маленько…
Морозов пошевелил бровями, вздохнул. И, помолчав, сказал куда-то в сторону:
– Сообразительная, говорю, баба ты. Пропадешь вот зазря.
– Зазря, это верно ты… – начала было Степанида.
Но Устин опять двинул бровями:
– Ну!.. По совести, ей-богу, не знаю, за что благодаришь.
И пошел своей дорогой, не оглядываясь.
Митька же после отъезда Зинки из деревни снова стал похаживать вечерами на гулянья, пропадал иногда до утра. О Зинке он вроде сразу же забыл, будто и не было в его жизни этой девчонки. И ни одним словом не поинтересовался у матери, с ее или без ее помощи уехала в Озерки дочка Антипа. Степаниду это обижало даже немного. Но вся она теперь была переполнена новым беспокойством – как бы опять не спарился с кем Митька… И однажды, не вытерпев, сказала:
– Митенька… Раз Бог пронес, так чтобы снова… Я к тому это…
И тут Митька взорвался, точно бочка с порохом, в которую бросили горячую спичку:
– Т-ты, мать! Чего ты лезешь всегда мне в душу?! Что Бог пронес? А может, лучше было бы, кабы не пронес он?! Кто у тебя просил этой… такой помощи?
– Сыночек, сыночек! – обиженно воскликнула Степанида. – При чем я-то здесь? Ведь сам ты отодвигаться начал, бегать от нее…
– Я, может, побегал бы, да образумился?
– Чего говоришь-то? Чего говоришь? Подумай!..
Митька, наверное, в самом деле подумал, стих, замолчал. Степанида подождала немного, качнула укоризненно головой:
– С матерью-то ты как, Митенька… Я тебя в себе носила, качала-пеленала, с ложки кормила…
– Чего уж… Ладно, мама, извини…
Когда родился у Зины сын, Антип, ее отец, беззвучно похлопал глазами и ртом. И только на другой день рассмеялся:
– Хи-хи… Вот это – трансляция. А я что говорил?
И побежал к Кургановым.
– Так как же оно, Дмитрий? Землю-то перед Зинкой кто копытами раскидывал? Ну-ка, признавайся, чей грех?
– Какой еще грех, скрипун ты слюнявый?! – подняла шум на всю деревню Степанида. – Ты чего это хочешь на сына навесить? Да я на тебя в суд за клевету…
– Не шибко, не шибко стращай-то… – попробовал было огрызнуться Антип.
Но Степанида не дала ему больше и рта раскрыть.
– Н-нет, этакое бесстыдство видали, а?! – кричала она во весь голос. – Да Зинка ведь дня дома не сидела, все по бригадам таскалась. Туда везет книжки, а оттуда что? А ну-ка, отвечай! Не можешь? А люди знают… Вон, говорю, люди, – тот же Андрон, например. И другие…
Андрон, кроме своего обычного и непонятного «сомневаюсь», по этому поводу ничего не говорил. Зато Устин Морозов подтвердил, что несколько раз видел Зинку в поле и в тайге с парнями из соседних деревень. Старушонки, посещающие молитвенный дом, при случае стали плеваться: «Распутница нечестивая! Моя кума с Ручьевки рассказывает, что Зинка, как приедет к ним, книжки свои под лавку, а сама на игрища…» – «И не говори, не говори! Юрка вон Горбатенко, болтают, шибко любитель был Зинкины книжки читать. Как она приедет, рассказывают, он сразу к ней…» – «Дык и Агафья Зиновьевна с притворовской бригады говорит…» – «А я в то лето, поварихой-то когда на стане работала, уж и нагляделась на дочерь Антипа… Одному улыбнется, перед другим аж дугой выгнется. А как стемнеет, хохоточки из кусточков…»
В конце концов сам Антип начал всем жаловаться:
– Нет, все это как отцу перенести, а? От кобылица, от кобылица! То-то я все думал – отчего ноги перед сном моет… Это куды ж с такого позору деться. Как теперь главного ответственника найти, коли Зинка сразу на десятерых указать может?
– Где уж тут найдешь! – рассудительно поддакивал Андрон. – Сомневаюсь.
Обо всем этом Митька, разумеется, знал, все разговоры слышал. Мать даже сказала ему однажды: «Заставил бы Антипа принародно прощения теперь попросить у тебя». Требовать от Никулина извинений смелости у Митьки не хватило, но по деревне он ходил теперь спокойно.
С матерью вел себя так, будто был у нее в долгу, хотя нет-нет да и огрызнется на что-нибудь. И Степанида не понимала, отчего так раздражает сына ее забота и внимание.
Сейчас, сложив руки на груди и поджав губы, она молчал наблюдала, как Митька рассматривает себя в зеркале, и все думала об одном и том же: отчего он лается на нее?
– Как все-таки с матерью-то ты, сынок… Обидно ведь мне.
– Да я и не хотел обидеть.
Степанида поднесла к глазам фартук. Митька увидел это в зеркало, беспокойно обернулся:
– Мама…
– Ладно уж, сынок… Пей, что ли, молочко.
Митька сел за стол, подвинул к себе кружку. Поднял глаза на мать и тут же опустил их.
– Ну, хорошо, я скажу. На станцию ездил. Докторша там одна работает в медпункте, Ленка Краснова. Да ты знаешь ее – уколы прошлым летом ставить приезжала. Вот… к ней ездил. Только я ведь… не собираюсь жениться. Ну, съездил… Так, в отместку, можно сказать, одной тут…
Степанида долго вытирала и без того сухие глаза. Опустила фартук, расправила его на коленях. Когда расправляла, руки ее чуть волновались.
– Оно всегда ведь так – сборы долгие, а женитьба в один день. Рано или поздно надо будет… хозяйку тебе. – И вдруг сказала: – Доктора-то хорошо зарабатывают…
– Вот опять! – буркнул Митька.
– Так мать же я тебе, как ты понять не можешь?! Я жизнь-то знаю маленько. И, хоть обижайся не обижайся, я скажу… Раньше вот как говорили: «Муж того возом не навозит, что жена горшком наносит. С умной женой пиры пировать, а с глупой – век горевать…» А как же? Не надо забывать, сынок, про это…
– Что еще там… говаривали раньше? – спросил Митька.
– Хоть и смеешься, а скажу, что же… Еще мудрость такая есть: «Невеста – как лошадь, товар темный». А на тебя – не слепая я – охотниц много. Супротив тебя-то кто из парней в деревне? Никого. Тебе-то, может, и невдомек об этом, а я ведь мать, знаю. И могут тебя быстренько обкрутить, что и не заметишь. Так кто же поможет тебе жену-то вровень выбрать, если не мать? Кто посоветует?
Митька отхлебнул из кружки. Степанида притихла.
Через некоторое время Митька все же спросил, уткнувшись в пустую кружку, точно хотел спрятать туда взявшееся краской лицо:
– Так что же… посоветуешь?
– А то и посоветую… Шутка ли – доктор! У докторов от одних подарков целое богатство. Подвалило счастье – брать надо обеими руками.
Митька поставил наконец кружку на стол, прошелся бесцельно из конца в конец комнаты. Затем присел на стул, посидел, разминая пальцами папироску. Он и не заметил, как порвалась тонкая папиросная бумага, как сухой табак сыпался и сыпался на крашеный пол, на его сыроватые еще от растаявшего снега валенки…
Примерно в тот же час Захар Большаков сидел в доме Анисима Шатрова и пил со стариком чай. Ирина, молчаливая, бледная, то тихонько подкладывала председателю чайную ложку, то неслышно пододвигала фарфоровую сахарницу. Но Захар, кажется, не видел ни сахара, ни чайной ложки. Держа в ладонях горячий стакан, он часто отхлебывал из него.
Сюда Большаков завернул, возвращаясь из самой дальней бригады. Он продрог насквозь. Анисим кивнул внучке на печь, и та немедленно вытащила чугунок с горячей водой, собрала на стол.
Сегодня утром, когда Захар совсем уж собрался ехать в бригады, Борис Дементьевич Корнеев, хмурясь, сообщил ему:
– Испортил нам Митька Курганов всю обедню, кажется.
– Какую обедню? – не понял сперва председатель.
– Вроде начал Егор помаленьку вытаскивать девку. Я за этим делом внимательно слежу. А сейчас Егор туча тучей. Я было сунулся к нему – он обложил меня злым матом…
И Корнеев рассказал Большакову, что произошло у скирды между Митькой и Варварой Морозовой. Захар выслушал все молча.
– А тут еще Иришка в рев ударилась и… Я боюсь, как бы она Варьке теперь чего не наговорила, и тогда уж…
– Иринка-то с чего? – спросил Захар, хотя тут же и сам догадался, поднял на агронома удивленные глаза.
– Ну да, мне и самому это было в изумление, когда Клавдия Никулина рассказала, – проговорил Корнеев. – А оно, если разобраться, чего же? Мы заскорузли уж, много нам не видно. Сердчишко у нее молоденькое, а Митька парень броский.
Захар сел в кошевку, укутал поплотнее ноги старой медвежьей шкурой.
– Как, кстати, она, Клавдия?
Корнеев пожал плечами:
– Знаешь же – треплют языками по деревне… Об ней с Фролом. Тоже… древний рыцарь объявился! Смех один.
– Я о другом…
Корнеев только махнул рукой:
– Чтоб в молитвенный дом – не слышно. А старушонки похаживают к ней.
– Да-а… – невесело проговорил Захар. – Ну ладно, присматривай тут. К обеду вернусь. Ни с Егоркой, ни с Варькой пока ничего такого не надо. Тут разобраться следует осторожно. Если Варька к Егору… чего же она Митьку по сопатке тогда не съездила?
– Не знаю. А должна бы, кажется…
– Вот то-то же… Тут непонятное что-то пока для меня. Ну, поглядим… С Иришкой сам попробую потолковать, если сумею.
И сейчас, прихлебывая чай, обдумывал, как удобнее это сделать. Анисим чай почти не пил, поглядывал беспрерывно в окошко.
– Митька-то, сказывают, на работу сегодня не вышел? – спросил старик.
– Не вышел. Ему, стервецу, уши оборвать бы, – сказал Захар.
Ирина звякнула посудой, быстро встала из-за стола, отошла к печке. Анисим проводил ее краем глаза.
– Сказывают, на полустанок утром бегал он, – продолжал старик. – Недавно воротился, я в окно видел. Заболел, может?