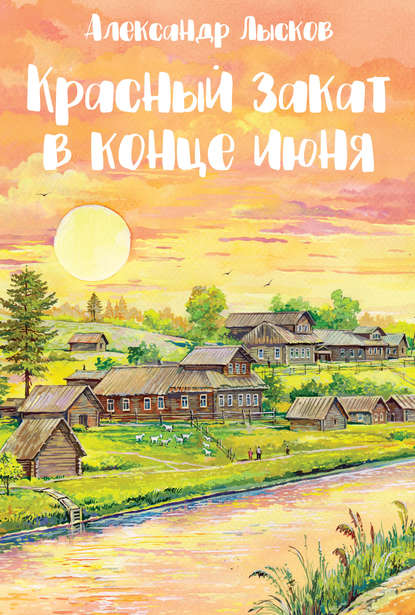Полная версия
Тени исчезают в полдень.Том 3
– Отстань, отвяжись… больно мне ходить… И голова горит прямо. Я лягу лучше…
И Федька в самом деле растянулся на снегу, снова закрыл глаза. Клашка пыталась его поднять, переворачивала с боку на бок, умоляла и даже целовала в холодные щеки и губы:
– Ну, Феденька! Ну, миленький!.. Замерзнешь ведь, Феденька. Вставай, а? Ну, встань хоть на минутку!
Но все было бесполезно. Федькино тело было вялым, тяжелым. Девочка беспомощно поглядела по сторонам. Далеко-далеко, на другом берегу, двигались огоньки – там все еще метался, видимо, Захар Большаков с колхозниками. Но они ничем не могли помочь детям.
– И чего ты навязался на меня, паразит такой? – воскликнула в отчаянии Клашка, пнула даже Федьку ногой, заревела и упала на колени, закрыв лицо руками.
Тогда Федька шевельнулся – раз, другой, третий – и попытался встать.
– Ладно, расплакалась тут, – проговорил он. И добавил с обидой: – И никто тебе не навязывался. Надо мне навязываться!
Клашка, смеясь от радости сквозь слезы, кинулась ему помогать.
– Ты маленечко, совсем маленечко побегай, и тебе будет легче. Вот увидишь. Ведь мужики вон, которые за сеном ездят, как ознобят ноги, так соскакивают с возов и бегут рядом… А ты что – ты, конечно, не навязался… Потом мы костер разожжем, у меня и спички есть… Утром, как развиднеется, надо обратно нам идти…
– Не пойду… не пойду! – сразу начал оседать обратно на снег Федька…
– Ну ладно, ладно, не пойдем! – испуганно и поспешно проговорила Клашка. – Зачем, в самом деле, нам идти? Костер разожжем и будем греться. Хлеб у нас есть…
Федька, морщась от боли, начал медленно ходить по каменистому берегу. Клашка крутилась вокруг, то и дело подталкивала его:
– Быстрей, Федя, ну, маленечко побыстрее…
Федька, закусив губы, прибавлял шагу. Вскоре он начал бегать…
Потом дети наломали сухих камышей и дудок, торчащих из-под снега недалеко от утеса. А самое главное – нашли несколько сухих сучьев, оторванных ветром от осокоря и сброшенных вниз. С трудом они развели небольшой огонь и стали сушиться.
Прежде всего необходимо было высушить Федькину обувь. Клашка стянула с него обледенелые сапоги, мокрые портянки, а ноги Федьки завернула в свой рваный шерстяной платок и в мешочек, в котором принесла хлеб. Сама осталась с непокрытой головой.
– Замерзнешь же, – сказал Федька.
– Вон что! – недовольно взметнула на него Клашка продолговатые, с едва заметной косинкой глаза.
К счастью, заметно потеплело.
Кое-как она подсушила его портянки и сапоги, помогла снова обуться. И потом до самого рассвета опять заставляла ходить по берегу, потому что костер потух быстро, съев все заготовленное топливо. Федька молча ходил, пошатываясь сперва незаметно, потом все сильнее и сильнее. Вскоре он стал запинаться и сел на камни, полузасыпанные недавно прошедшим и, вероятно, последним в этом году снежком.
– Ты только не сиди, только не сиди! – умоляла его Клашка, опускаясь рядом на камни. – Сейчас рассветет, и мы что-нибудь придумаем. А не мы – так дядя Захар. Обязательно…
– Я ничего, ничего… Голова вот только… Шапка горячая, что ли? Как камень…
– Какой камень? – не поняла Клашка.
– Мне не холодно, правда, не холодно… Я посижу, отдохну и встану.
Посидев, он в самом деле вставал и опять ходил, запинаясь и покачиваясь. Но когда рассвело, лед на Светлихе, простоявший всю ночь без движения, снова тронулся. Льдины опять становились на ребро, лезли одна на другую, с громким хлюпаньем падали на воду, с треском ломались и крошились. Перебраться кому-либо через это зловещее месиво льда было совершенно невозможно.
Ледоход продолжался весь день. И весь этот день Клашка мучилась с Федькой, то и дело впадавшим в долгое забытье. Примерно в полдень, измученная окончательно, она привалилась к какому-то камню, стала жевать кусок хлеба. Заставляла съесть хоть крошку хлеба и Федьку, но тот отказывался. Он сидел возле этого же камня и беспрерывно жаловался, что ему то холодно, то жарко.
Клашка случайно уперлась руками в камень и почувствовала, что он чуть-чуть тепленький. Она о чем-то подумала-подумала, поглядела на Федьку и пошла куда-то. Вернулась минут через двадцать, подхватила Федьку под мышки и через силу, багровея осунувшимся лицом, поволокла его в сторону.
Еще минут через двадцать она подтащила Федьку к большой, немного покатой к западу каменной плите, отломившейся когда-то, вероятно, от утеса. Вокруг плиты валялось много других каменных обломков различной величины и формы.
– Федя, слышишь, Федя?! Очнись, миленький, слышишь! – принялась она встряхивать Федьку за плечи. – Ну не затащить мне тебя на плиту…
– Отойди, я лягу, – не приходя в себя, бормотал Федька.
– На плите и ляжешь. Ее солнышко нагрело, она теплая, как печка. Я сейчас только пробовала. И тихо там, солнышко до самого вечера с нее не уйдет. А я накрою тебя сверху. Ну, слышишь? Становись мне на плечи и полезай.
Кое-как она затолкнула Федьку на плиту. Там уложила его на спину, сняла с себя пальтишко и укрыла Федьку сверху. Затем и сама растянулась на плите, прижимаясь всем телом к камню.
Здесь действительно было тихо и сравнительно тепло. Солнечные лучи до самого вечера падали почти отвесно…
Здесь их вечером и нашли Захар Большаков с Фролом Кургановым. Они переплыли Светлиху на лодке, едва только лед стал пореже. Но возвращаться обратно с детьми не решились, потому что по реке плыло еще множество тяжелых льдин. Каждая могла шутя разбить лодку в щепки или перевернуть ее. Они наскоро установили на берегу привезенную с собой брезентовую палатку, укутали детей в большие тулупы.
До утра Федька почти не приходил в себя. Иногда он просил только пить. Фрол молча поил его водой из железной фляжки, которую прятал затем в карманы штанов.
Когда наступил новый день, Светлиха очистилась. Изредка проплывали небольшие льдины. Они тоже были опасны для хрупкой лодки, но Большаков с Кургановым все-таки поплыли в деревню, потому что Федька начал уже бредить.
На берегу их угрюмо и виновато встретил Устин Морозов. Он был весь смятый, борода растрепана.
– Что же ты с сыном сделал, а? – сурово спросил его Большаков. – А если бы замерз он там, тогда что? Ну, чего молчишь?! Или еще раньше… когда бежал, под лед бы угодил? Да и Клашка еще сорвалась бы со льдины… С кого тогда спрашивать?..
– Спрашивай с меня, подлеца, Захарыч, – дрогнувшим голосом проговорил Устин. – Ей-богу, разум вышибло проклятым самогоном. Сегодня только очнулся. Никогда ведь не было со мной такого, Захарыч…
Устин взял из лодки завернутого в тулуп сына.
– Прости меня, сыночек… – Потом опять обернулся к Захару: – Ну, виноват, что же, Захарыч… Я сам себя исказнил до крови. Спасибо тебе низкое. И тебе, Фрол. Скотина я безрогая… Сыночек мой…
И Устин пошел, прижимая к себе сына. Люди, собравшиеся на берегу, смотрели Устану вслед, видели, как он часто нагибался к Федькиному лицу, горбясь всей спиной. Люди думали, что Устин целовал сына. И даже Захар Большаков смотрел на удалявшегося Морозова уже не такими суровыми глазами.
Фрол Курганов тоже глянул на сутулые плечи Устина. Но тут же хмуро сплюнул и стал вытаскивать лодку подальше на берег.
Федька болел долго, чуть ли не до половины лета. Пистимея мазала какими-то мазями его обмороженные ноги, выгоняла из сына простуду пахучими травяными припарками.
Устин же ни разу не зашел в ту комнату, где лежал сын.
Начав понемногу вставать, Федька снова подолгу просиживал у окна, смотрел на Марьин утес, под которым чуть не замерз, на развесистый осокорь, сучья которого немного согрели его той страшной апрельской ночью. Если бы не эти сучья, Клашка не могла бы просушить его обледеневшие сапоги и смерзшиеся портянки. А это значило бы, что Федька, если бы даже и выжил, остался бы без обеих ног.
– Мам, позови ко мне Клашку сегодня! – попросил неожиданно Федька.
– Да зачем она тебе?! – умоляюще проговорила Пистимея. – Ты выздоравливай, выздоравливай, сынок…
– Значит, не позовете?
– Отец не любит, когда… помимо его воли…
– Воли?! – Федька дернулся от окна. – Ладно, тогда я сам пойду к ней.
– Сиди уж, ради бога, сиди! – замахала руками мать. – Ладно уж, только сиди. Тебя еще ветерок опрокинет…
Клашка пришла, когда в доме не было ни отца, ни матери. Застеснялась у порога, не осмеливаясь пройти дальше.
– Иди сюда, Клаша…
– Ничего, я тут. Выздоровел?
– А ты почему ни разу не пришла ко мне? Я ведь ждал.
– Я сколько раз хотела, да…
– Что? Отец в дом не пускал? – догадался Федька.
Клашка мялась у порога, но ничего не сказала: Федька подошел к ней, взял за руку:
– Понимаешь…
Слов больше не было. Ему хотелось обнять девчонку с раскосыми глазами и даже поцеловать, чтоб лучше поняла то, что он намеревался сказать. Но было стыдно.
Клашка тоже застеснялась. Опустила голову, тихонько отняла руку.
– Ну уж… ладно, ты поправляйся быстрее. А мне знаешь как от матери попало?
Вскоре Федька выздоровел окончательно. К нему быстро стали возвращаться силы, бледные щеки зацвели румянцем. Однажды вечером в комнату Пистимеи, где спал теперь Федька, вошел Устин. Мальчик даже вздрогнул.
Несколько минут они смотрели друг на друга: Федька – сидя полураздетый на кровати, Устин – стоя у двери, ухватившись за косяк. Устин загораживал своим большим телом весь дверной проем, словно боялся, что сын сорвется с кровати и выскочит из комнаты.
Федька, однако, сидел спокойно. Он только подобрал с пола босые нога и спрятал их под ватное стеганое одеяло.
– Ну?! – вопросительно произнес Устин.
– Чего «ну»? – переспросил Федька упругим голоском.
– С-сопляк, вот что! Ишь что выкинул! А о батьке вон деревня вся звонит.
– Я ничего не выкидывал… Теперь вот в школе на другой год остался.
– Феденька, сыночек, как ты отцу родному отвечаешь? – поспешно сказала Пистимея, укачивая годовалую Варьку.
– Ты помолчи! – оборвал ее Устин, взмахнув рукой.
В комнате долго копилась тишина. Слышен был только скрип люльки, подвешенной к потолку. Устин все так же стоял у двери, Федька все так же сидел на кровати. Они в упор смотрели друг на друга: отец – с немым бешенством, которое, казалось, вот-вот помутит ему разум, а сын…
В Федькином взгляде было все – и испуг, и обида, и безмолвный детский укор. Но сквозь все это пробивалось, ясно просвечивало такое откровенное упрямство, что Устин невольно еще крепче ухватился за косяк. Еще вот секунда-другая, и если Федька не опустит свои глаза под его, Устиновым, взглядом, если не отвернет лицо, то… может произойти страшное, самое страшное…
– Отвороти глаза!! – прорычал Устин.
И Федька… Нет, сын не отвел глаза. Он только…
Устин не видел, что сделал Федька. Может быть, усмехнулся. Но Устин почувствовал, почти физически ощутил, как полились из глаз сына вместе с упрямством обжигающие струйки ненависти, презрения и… насмешки. И вот эта насмешка, эта последняя струйка была самой горячей…
– Федька-а! – В этом крике Устина прозвучали и угроза, и мольба, и отчаяние.
Федька стремительно привстал на постели. Он стоял на четвереньках, сжавшийся, готовый к отчаянному прыжку. Его напружившаяся фигурка, как в темном зеркале, отражалась в стеклах окна, возле которого стояла кровать. «И прыгнет сейчас на меня, как рассерженный хорек, вцепится зубами в горло, – мелькнуло у Морозова. – А то в окно сиганет, прошибет головой стекло. И тогда Большаков опять…»
Вот это-то «опять» и остановило, пожалуй, Устина. Остановило еще до того, как Федька сказал:
– Если ты хоть шаг сделаешь ко мне… я… в окно…
– Феденька, сыночек! – опять запричитала Пистимея. – Стекло резучее, в кровь покалечишься, глаза выколешь. Да и мыслимое ли дело против отца, родителя… Ведь не простит Господь Бог тебе во веки веков…
– Замолчи ты!! – опять оборвал жену Устин Морозов.
Он прокричал это с такой яростью, с какой никогда не кричал на жену, – аж стекла зазвенели. Прокричал – и замолк, сел на скамейку. Посидел, подумал о чем-то и сказал:
– Испугался он твоего стекла, как же… Он, видать, не то что глаза… Зажми ему, зверенышу, голову – он, однако, перестригет шею да все равно уйдет. Хоть от родителя, хоть от крестителя… Ну и пусть живет как знает…
И с этих пор Устин Морозов оставил сына, отступился. И жене запретил вмешиваться в Федькину жизнь.
Родители жили сами по себе, Федька – сам по себе. Мальчик никогда не обращался ни к отцу, ни к матери со своими просьбами, никогда не спрашивал совета. Был он тих, задумчив и часто очень печален. Казалось, он все время думает и думает о чем-то, старается решить какой-то очень трудный вопрос и никак не может.
Зимой Федька целыми днями пропадал в школе, летом – с ребятишками на Светлихе или в тайге. Приходя домой, усталый и проголодавшийся, не просил, как другие дети, поесть, а молча и терпеливо ждал, когда мать соберет на стол. Куски брал осторожно и боязливо, точно опасался, что отец ударит по рукам.
– Чего ты, Феденька, какой-то… – начала было однажды Пистимея.
Но Устин звонко хлопнул по столу тяжелой, как камень, ладонью.
– Не лезь! – Подвигал бородой из стороны в сторону и добавил, усмехнувшись: – Я сказал – пусть живет…
Усмешка эта потонула где-то в бороде, затерялась, как дождевая капля.
– Как же «не лезь»? – с укором и предостережением простонала Пистимея, когда Федька вышел из комнаты. – Не зря, со смыслом, предсказано у Сираха пречистого о дите человеческом: «Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, не вышло из повиновения тебе…»
– Пошла ты со своим Сирахом… и со смыслом! Не вмешивайся.
Однако сам вскоре вмешался.
Варьке было уже года четыре. Она, как и Федька когда-то, целыми днями бродила у плетня, все чаще и чаще поглядывала сквозь его дыры на улицу.
– А чего ты? Пойдем, – перемахивая через плетень, сказал однажды Федька.
Ворота были заперты на замок, пересадить сестру через высокий плетень Федька еще не мог, хоть и был старше ее на восемь лет. Тогда начал делать в плетне лазы. Устин, сопя, заплетал дырки таловыми прутьями. Наконец ему это надоело, он воскликнул:
– Э-э, черт, да что это за дети! Хоть глухим заплотом всю усадьбу обгораживай… И эта мокроносая свиристуха от дома отбилась. Взять бы их обоих да стукнуть голова об голову!..
Федька видел, как мать схватила Варьку, прижала к себе.
– Что говоришь-то, одумайся! Долго ли, в самом деле, ребенка с ума свихнуть! Не трогай ты ее, не пугай, мою касатушку. Уж я сама ках-нибудь с ней, сама… – проговорила мать и унесла дочь.
А отец подошел к Федьке:
– Вот что, молодец… Ты Варьку не трожь мне, слышишь!
– Я и не трогаю. Побегать-то ей надо по улице?
– В общем, договорились! А то я терплю-терплю, да задавлю тебя, как котенка. Помни.
Нельзя сказать, что Федька не испугался. Он знал отца, и у него мороз прошел по коже. Однако про себя упрямо подумал: «Завтра же проделаю новый лаз. Да в таком месте, что не найдешь сроду, не заметишь».
Лаз в плетне он проделал, но с Варьки теперь мать не спускала глаз. А когда уходила на работу, относила дочку к Марфе Кузьминой.
Конечно, не раз и не два Федьке удавалось, что называется, «выкрасть» Варьку. И отец, конечно, его не «задавил, как котенка». Но вскоре он махнул на сестру рукой. Во-первых, девочка была еще слишком мала, быстро уставала, начинала хныкать, проситься домой. Федька и сам был не очень взрослым, не умел ее успокоить. Во-вторых, отец все-таки нет-нет да и показывал на ремень, а мать – та попросту чуть ли не сутками его после этого морила голодом. А в-третьих, сама Варька откликалась на его зовы все неохотнее, становилась со временем все пугливее. А однажды прямо заявила:
– Не пойду я никуда, Федька. Я уж большая, мне семь лет, я должна матушку слушаться…
– Дура, зачем тебе ее слушаться?
– А Бог-то! Ка-ак посадит в котел со смолой! А под котлом огонь. А смола кипит ключом, как вода. Я сама на картинке видела…
– Дура! – опять сказал Федька. – Взяла бы да сожгла эту картинку.
– Вот-вот… Мамка не зря говорит, что тебя-то в котел и посадят…
Весной 1940 года Федька окончил седьмой класс. Прямо из школы, с переводным свидетельством в руке, Федька пришел в колхозную контору и попросил у Захара Большакова работу.
– Куда тебя определить? – спросил Захар. – Человек ты грамотный, давай учеником счетовода в контору? Потом бухгалтером станешь.
– Пошлите пастухом меня, – попросил Федька.
– Ну что ж, пастухом так пастухом. Дело хорошее, – заключил председатель. – До школы с сотню трудодней заработаешь. С завтрашнего дня приступай. Будешь пасти дойный гурт вместе с Филимоном Колесниковым.
Вечером этого же дня Федька готовился к выходу на работу. Отец молча ужинал, поглядывая на Федьку. Вдруг с грохотом бросил ложку, шагнул к сыну:
– Ты что же это задумал, стервец, а? Что, спрашиваю?
Федька тоже встал. Ростом он был теперь почти с отца, только узок в плечах, жидковат. Он стоял перед ним с длинным ременным бичом в руках, и Устин смотрел почему-то на этот бич.
– Ты что надумал, Федька, а? – повторил Устин уже тише, как-то заискивающе, будто в самом деле испугался бича.
– Какой я тебе Федька?! У меня другие имена: стервец, звереныш, сопляк…
– Вижу, умный стал, – зло проговорил Устин. – Не зря, выходит, в школе учился.
– Какой есть, – спокойно ответил Федька. – А догадками мучиться нечего: подзаработаю трудодней за лето и осенью уйду от вас.
– Добро… – промолвил Устин нехорошим голосом и вышел во двор.
Все лето Федька пас коров за Светлихой. Частенько к нему на выпаса приходила Клашка Никулина. К ее приходу он набирал полную фуражку луговых ягод, они весело ели их, вымазывая красным соком не только губы, но и щеки. А потом обычно ложились в обваренное солнцем пахучее разнотравье и молча смотрели, как бегут по небу облака.
Когда подошел к концу август, Захар Большаков сказал Федьке:
– Ну что ж, дружок-пастушок… Спасибо за помощь. Сдавай свой бич Филимону…
– А я, дядя Захар, я до самых снегов хочу…
– Постой, а в школу?
– Да я…
– Ты не мудри-ка, Федор! Это еще что за штуки? Я вот сегодня же поговорю с твоим отцом…
Говорил он с отцом или нет, Федька так и не узнал. Только утром первого сентября мать вынула из сундука новую рубаху, пиджак, сапоги, а отец сказал коротко:
– Марш в школу!
Федька медлил. Учиться дальше, конечно, очень хотелось. Но, с другой стороны, снова жить под отцовской крышей?!
– Я тебе же сказал весной… – начал было Федька нерешительно, но отец вдруг мягко положил ему на голову свою широкую ладонь. Это было так неожиданно, что Федька даже присел.
– Слушай, Федор, – уговаривающе произнес отец. И это тоже было неожиданно. – Подурили – и хватит. Учись, пока шея отцовская дюжит…
– Вот я и хочу слезть…
– Да не об этом я, – поправился отец. – Ты видишь, я в жизнь твою не вмешивался…
– Может, ты опять не об этом? – Федькины губы тронула почти незаметная усмешка.
Но Устин разглядел ее, и его борода качнулась из стороны в сторону.
– Л-ладно. В самом деле вырос…
Федьку поразили не слова, а отцовский голос – усталый, грустный, совершенно беззлобный и… беспомощный. У Федьки даже мелькнула мысль: да этот ли человек, сверкая в лунном свете голыми плечами, бежал когда-то за ним по улицам села, готовый схватить, бросить оземь и растоптать своими огромными сапожищами? Судя по словам, тот. Судя по громадным юфтевым сапогам, тот же. Вон та же волосатая грудь виднеется из-под расстегнутой рубахи. Та же черная борода, те же черные глаза с ослепительными белками… А судя по голосу, не тот.
У Федьки мелькнуло, что Захар Большаков, наверное, все же говорил с отцом о школе. Подумал – и рассмеялся легко и радостно.
– Ты чего? – недоумевающе поднял брови Устин.
– А так, весело. Почему человек не может сразу понять всего, а? Видит все, а не понимает до поры до времени…
– Чего не понимает?
– А что есть на свете люди. У каждого на свете есть люди!!
– Ма-ать! Пощупай ему лоб – не горячий? – как-то поспешно прокричал Устин.
– Нет, не горячий, нечего щупать. А не понимаешь – объясню. У меня вот Клашка есть, Захар Большаков, и еще много-много есть у меня на земле людей. И сама земля есть – со Светлихой, с зареченскими лугами, с тайгой, с Зеленым Долом, с утесом над речкой, с осокорем над утесом. И я за всем этим как за железной стенкой.
– Хватит! – оборвал Устин Федьку хриплым криком.
– Нет, не хватит! Ты просто лоб расшиб об эту стенку.
– Мать, дай ему своего вонючего питья, а то… не в себе он, кажись… в самом-то деле! – опять закричал Устин.
– Та-ак, значит, не понимаешь меня? – спокойно спросил Федька.
– Не понимаю.
– Или не хочешь сознаться, что понимаешь?
Теперь во взгляде Федьки и в помине не было испуга, обиды или беспомощного детского укора. Перед Устином стоял вовсе и не подросток, а взрослый, сильный человек с ясными, голубыми, как у матери, глазами. Он не усмехнулся, но в этих глазах все равно плавали, переливались под лучами утреннего солнца, косо бьющего через всю комнату, горячие искорки. Они не кололи Устина, не жгли ядовито и беспощадно, как он, очевидно, ожидал, но они, эти искорки, делали более страшное для Устина дело: они безжалостно заставили его вспыхнувшие было черным огнем глаза потухнуть и медленно опуститься вниз.
Ощутив ломоту в глазницах, точно на его веки давили чем-то твердым, деревянным, Устин прикрыл лицо широкой ладонью и тихо, почти шепотом, произнес:
– Вот этого, Феденька, я не прощу тебе никогда!
Федька расслышал все слова, но не понял их страшного, зловещего значения.
Да и кто бы мог понять, если сам Устин в ту минуту еще не знал, не представлял, как и когда он сможет отомстить сыну?
И восьмой класс Федька окончил с успехом. Про себя он давно, еще зимой, решил в этом году поступить в сельскохозяйственный техникум.
Теплым июньским вечером он сидел на берегу Светлихи и раздумывал, куда, в какой город лучше всего отослать документы.
Солнце недавно опустилось, закат уже потух, но звезд еще не было. Земля отдыхала перед сном, как наработавшийся за день человек, который только что поужинал, а теперь в молчании сидит под деревом во дворе своего дома, покуривает и дышит полной грудью; его натруженные руки, ноги, спина чуть слышно гудят приятным, затихающим гудом, человек прислушивается к нему и с тихой радостью думает о делах, которые предстоит ему совершить завтра.
Над землей висело теплое, набухающее легкой и светлой синью небо, обещающее короткую, но спокойную ночь. В молчании застыла Светлиха, не всплеснет волной, не сверкнет ослепительным солнечным бликом. Только когда сыграет где-то на середине крупная рыба, по реке пойдут круги, покатятся друг за другом к берегу, оттолкнутся и побегут обратно, делаясь все меньше и меньше. И снова речка становится тихой и неподвижной.
Но вот бесшумно принялись падать в воду мелкие звездочки – одна, другая, третья… Они, не потухая, проваливались на самое дно и там разгорались все ярче и ярче. И какой же глубокой, какой бездонной казалась тогда маленькая Светлиха! Становилось жутко при одной только мысли, что в этой речке целыми днями плещутся ребятишки, что ее безбоязненно переплывают на лодках, на пароме…
Звезд в речке становилось все больше. Больше их высыпало и на небе. А в воздухе все гуще и гуще разливалась теплая темнота.
Где-то далеко-далеко за Светлихой, за Марьиным утесом, поблескивали зарницы. Они беззвучно вспыхивали сперва редко и слабенько, потом все чаще и сильнее, окатывая бледно-розовым светом и утес, и осокорь на нем, и черную гладь Светлихи.
Это был вечер 21 июня 1941 года.
Подошел Захар Большаков, поздоровался, присел рядом на теплый еще от дневных солнечных лучей валун. Председатель только что выкупался, через плечо у него болталось мокрое полотенце.
– Хорошо нынче зарницы горят, – проговорил Захар, любуясь бесшумным вечерним огнем. – Старики говорят: добрая примета, быть урожаю.
– Отчего они, зарницы? – задумчиво спросил Федька. – Гроза где-нибудь там хлещет?
– Может, гроза. Мир большой! Ты еще не представляешь, какой он большой… Что же, Федор, я тебя поздравляю. Учителя говорят, кругом на «отлично» учебный год окончил. Молодец! До осени чего делать собираешься? Может, опять пастушить пойдешь?
Федька подумал, что, если бы он тогда не пропустил по болезни год, он окончил бы теперь девятый класс.
– Дядя Захар, за что ты свою работу любишь? – спросил он.
– Я? Как тебе сказать… За то, что она дает тебе возможность учиться. Клашка Никулина кончает вон скоро десятилетку. Нынче твоя сестренка в школу пойдет. У Фрола Курганова сынишка растет. Я работаю для того, чтобы и он был счастливым. Чтобы и мой сын или дочь, если они когда будут, не знали ни горя, ни нужды…