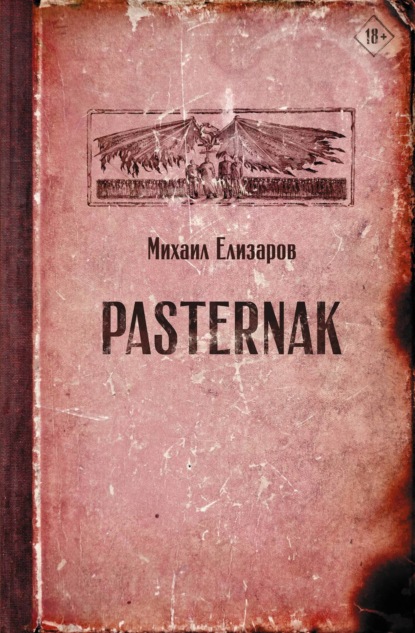Полная версия
Ногти
– Отстань, дурак, я пошутила!
Я задрал ей платье, она шикнула:
– Я мужиков позову!
Меня рассмешила эта угроза, я уточнил:
– Муравьёв позову?
Настенька сразу притихла. Из-под дивана показались Вовчик и Амир, я только глянул на них, они съёжились от страха и попрятались.
– Ну же! – торопила ставшая смирной Настенька. – Кто-нибудь придёт…
Я освободил от штанов мою жилистую страсть, и наступило беспамятство.
Проснулся я потому, что кто-то тряс меня за плечо. Это была полная немолодая женщина, и она говорила с лёгким испугом:
– У кореша твоего, кажись, «белка» началась, пойди посмотри!
Мы спустились во двор. Я сразу понял, что взволновало её. Бахатов в профиль действительно напоминал белку. Он стоял лицом к заходящему солнцу и читал нараспев, подсматривая в обрывок газеты, об экономических достижениях новых фермерских хозяйств Черкасской области. Бахатов закончил читать и начал обкусывать ногти, отчего сходство с белкой ещё более усилилось.
Чтоб не мешать Бахатову, я увёл женщину в дом. Там я поинтересовался, где дядя Лёша и остальные. Она сказала, что все разошлись ещё с прошлого вечера, а я проспал почти сутки.
Показался чуть измученный Бахатов и сказал, что нужно уходить. Я уловил в его голосе двусмысленность – ногти что-то подсказали ему, и он торопился. Мы простились с хозяйкой и куда-то заспешили.
12Бахатов уверенно вёл меня по одноэтажным улицам, пока дома не выросли до размеров городских. На шумном транспортном перекрёстке Бахатов остановился, как будто пришёл. Мимо проехал троллейбус, за ним милицейская машина, которая и тормознула возле нас.
Милиционер спросил, кто мы и что здесь делаем. Я, наверное, в тысячный раз, достал бумажку с адресом общежития. К нам отнеслись сочувственно и пригласили сесть в машину. Мы ехали, Бахатов глазел по сторонам, а я рассказывал, как мы заблудились и никто нам не хотел помочь, что ночевали в подвале. О дяде Лёше я благоразумно не упоминал. Тогда пришлось бы признаться, что мы, разини, потеряли пищевую инструкцию. И про вечеринку у друзей дяди Лёши тоже не хотелось говорить, впутывать, пусть мёртвую и призрачную, Настеньку.
Нас привезли в отделение, разместили в пустом изоляторе, принесли поесть. Через некоторое время за нами пришёл охранник и отвёл в кабинет к начальнику. Там уже находился взволнованный и такой родной Игнат Борисович. При нашем появлении он даже подскочил на стуле – и вздохнул прямо сердцем.
– Ваши? – спросил из кресла начальник.
– Мои, – ответил Игнат Борисович.
Начальник сделал знак, чтобы мы вышли. Из коридора было слышно, как он отчитывает Игната Борисовича, а тот деликатно оправдывается. Минут двадцать они искали виноватых. Игнат Борисович звонил в психоневрологический диспансер и выяснял, почему нас не встретили. Там понервничали и быстро нашли козла отпущения. Кому-то пообещали строгий выговор, кого-то лишили копеечной премии, и на этом дело закончилось. А нас доставили в психиатрическую больницу для проживания и очередного переучёта мозгов. Полагалось, что мы не оправдали доверия, оскандалились, хвалёные умники.
Потянулись долгие дни врачебного освидетельствования. В этот раз за нас взялись основательно – тестировали по полной программе. Впрочем, процедура была знакома нам с детства. Многие задания мы давно выучили наизусть. На каждый вопрос я имел по несколько ответов, от явно безумных до парадоксальных по глубине мысли. Я мог манипулировать вариантами и, в зависимости от преследуемой цели, прикинуться или, наоборот, произвести хорошее впечатление.
Поначалу мне задавали вопросы типа – кто я: мальчик или девочка, у кого больше ног: у собаки или петуха, когда я завтракаю: вечером или утром, какое сейчас время года и другие глупости. Дальше вопросы пошли интересней: что такое кибернетика, из чего делают бумагу, сколько существует континентов, кто написал музыку к балету «Лебединое озеро», чем объясняется смена дня и ночи. Нам показывали картинки и силуэты, а мы отвечали, что на них нарисовано. Некоторые картинки были с ловушками: водолаз, поливающий под водой морские цветы, женщина, говорящая по телефону без шнура. Мы указывали на нелепости в картинках.
Потом, по просьбе врачей, я считал от единицы до двадцати, пропуская каждую третью цифру, называл месяцы в обратном порядке. Очень мне понравилось задание, в котором нам давалось начало предложения: «Уверен, большинство мужчин и женщин…», «Больше всего люблю тех людей, которые…», «Самое худшее, что мне пришлось совершить, это…», – а мы заканчивали.
Поэтичный Бахатов отвечал удивительно. Чего стоил его пересказ истории о человеке, у которого курица несла золотые яйца. Человек решил, что в курице полно золота и зарезал её, а там было пусто – такие нам рассказики читали.
Бахатов переиначил историю на свой лад: «Один хозяин – птицевод с собственническими тенденциями – невзирая на факт, что курица несёт золотые яйца, – а золото имеет большое значение на мировом рынке и является большим подспорьем в сельскохозяйственной индустрии – зарезал её, что противоречит морали, гласящей: не поступай как варвар в поисках того, чего нет».
Из новенького было рисование пиктограмм. Нам предлагалось сделать условный знак «безутешной скорби», «сытного ужина». Первое словосочетание я изобразил в виде могильного креста и циферблата часов. Для второго словосочетания я тоже взял циферблат, но в виде надкушенной тарелки, а в ней ложка и вилка. В обеих пиктограммах часы символизировали непрерывность и длительность.
Вскоре до нас дошли слухи, что врачи склоняются к мысли вообще снять меня и Бахатова с инвалидности. «В городе они потерялись! Большое дело! Да я сам из деревни! – кричал председатель комиссии, профессор. – Я, когда впервые в город попал, думал, что по телефону можно звонить, номера не набирая – трубку поднял, и всё. А теперь ничего, освоился!»
Вечером мы с Бахатовым держали совет. Нам совсем не хотелось полностью лишаться финансовой поддержки. Инвалидная пенсия, хоть и маленькая, могла кое-как прокормить, но, с другой стороны, перекрывала путь во многие сферы общества. После долгих раздумий мы нашли золотую середину. Бахатов решил остаться на инвалидности, для подстраховки. Я отважился идти в большую жизнь.
Все точки над «i» мы расставили следующим утром, на задании по исследованию ассоциаций. Я старался пользоваться так называемыми высшими речевыми реакциями. Мне говорили: «Стол», – я отвечал: «Деревянный». «Река?» – «Глубокая». Или отвечал абстрактно: «Брат – родственник, кастрюля – посуда».
Бахатов поступал по-другому. Ему говорили: «Карандаш». Бахатов, щурясь, спрашивал: «Где?» Ему говорили: «Мама», – он рифмовал: «Рама». А потом сделал вид, что устал, и на все вопросы урчал: «Мурка, мурка», – и пожимал плечами. Поскольку раньше он вёл себя вполне адекватно, такое поведение было расценено как психопатическое.
Только на силлогизмах Бахатов укрепил комиссию во мнении, что таки страдает лёгкой олигофренией. К примеру, давалась следующая посылка: «Ни один марксист не является идеалистом. Некоторые выдающиеся философы не являлись марксистами, следовательно…» Я отвечал: «Некоторые выдающиеся философы были идеалистами».
Бахатову говорили: «Все металлы – проводники электричества. Медь – металл, следовательно?» И вместо очевидного: «Медь – проводник электричества», – Бахатов выдавал: «Надо расширять добычу металлов, меди, чтоб промышленность развивалась».
Своего мы добились. Меня, в статусе абсолютно нормального, приписали к ПТУ при строительном комбинате. Бахатову сохранили инвалидность и записали на тот же первый курс, что и меня. Нас не хотели разлучать.
13Предполагалось, что летом мы будем постигать сантехническую премудрость в местном жэке на должности подмастерьев, а осенью приступим к учёбе. Комната, которую нам выделило общежитие, была просто замечательная. Там даже стоял телевизор.
С утра мы подходили в жэк к мастеру Фёдору Ивановичу. В первую встречу он принял нас по-стариковски сварливо, но скоро выяснилось, что это сердечный человек, хоть и горький выпивоха. Мы сработались. Старик не докучал нам теорией и не злоупотреблял практикой. Иногда он брал нас на вызовы, и если за труд ему давали зелёный трояк или синюю пятёрку, всегда делился.
Наука, что он преподавал, казалась нехитрой. Я быстро овладел сборкой-разборкой кранов отечественных конструкций. Бахатов предпочитал финские и чешские системы. Но это была верхушка профессии. Суть дела, не сразу понятная, заключалась в том, чтобы починять, ломая. Именно эту концепцию ремонта терпеливо, но твёрдо вдалбливал наш учитель.
Подлинное мастерство состояло не в халтуре: старая прокладка вместо старой или подтекающий стояк на место исправного. Фёдор Иванович учил нас презирать такой труд. Сам он работал виртуозно и от нас требовал фантазии и полёта. Я хорошо запомнил характерный пример.
Фёдора Ивановича вызвали осмотреть газовую колонку – у хозяев не нагревалась вода. Старик внимательно оглядел аппарат, разобрал, постоял, крепко задумавшись. Потом вздохнул и сказал, что имелся-де у него финский металлизированный гибкий шланг – «для себя покупал». Хозяева дают ему червонец. И вот мы втроём идём за чудо-шлангом, не спеша, с достоинством, туда и обратно. Обрадованные хозяева благоговейно глядят на этот фирменный шедевр. Фёдор Иванович смотрит на часы, говорит: «У нас обед, шланг поставим завтра».
Хозяйка проворно накрывает на стол, Фёдору Ивановичу подкидывают ещё пятерку за труды, и он быстро и безупречно ставит шланг на колонку. Вода нагревается. Мы выходим на улицу, Фёдор Иванович смеётся: «Учитесь», – мы недоумеваем, а он объясняет: «Гибкий шланг от горячей воды деформируется, вроде как засоряется, мы ещё не раз придём его менять!»
В такие удачные дни старик бывал счастлив. Мы накупали гору вкусных вещей, водки, пива и устраивали настоящий пир. И тогда я верил, что мы – одна семья.
Фёдор Иванович частенько поругивал меня за бесхитростность, хоть и уважал мою способность отвинчивать без ключа сорванные гайки. «Ты, Санёк, – говорил он мне, – на таких фокусах много не заработаешь, ты глобальней мысли».
Когда через год я навестил его, он сказал мне: «На свою пианину особо не рассчитывай, мало ли что. По клавишам стучать – дело глупое. Главное, – поучал чудный старик, – чтоб в руках профессия была!»
Благодаря Фёдору Ивановичу, телевизору и газетам мы быстро ознакомились с правилами жизни в городе – они постепенно усвоились нашим сознанием. В свободное время мы гуляли и не боялись заблудиться. Стояли жаркие дни, мы ходили на реку, загорали, неумело бултыхались. Вечера проводили в кинотеатре или в видеосалоне.
14Однажды я поехал в центр без Бахатова, искал универмаг и, случайно проходя мимо какого-то здания, услышал, что оно просто начинено музыкой, звучавшей из каждого окна, – различные инструменты, духовые и смычковые. Доносились поющие голоса – красивые и не очень. На первом этаже играл рояль, через окно ещё один, их исполнение накладывалось друг на друга. Это были не связанные между собой отрывки, но они сплетались в специфический оркестр.
У меня даже зачесалась спина от возбуждения. Я, от природы ужасно стеснительный, не смог побороть искушения и зашёл. Внутри царила неразбериха. Носились молодые люди: парни и девушки, наэлектризованные и быстрые, шумели всклокоченные взрослые дядьки, басили исполненные особой важности дамы. Над всем этим пиликали сотни скрипок и виолончелей, тренькали мандолины, гнусавили далёкие и близкие баяны.
Я, как обычно, вызвал к себе интерес, но не пристальный, и мне удалось затеряться. Гул носился по коридорам, точно поднятая пыль. Я выделил из него рояль и устремился на звук, пока не вышел к хвосту людной очереди, упирающейся в большую чёрную дверь. Оттуда пробивались дивные пассажи.
Рояль смолк, дверь приоткрылась – приглашали нового исполнителя. Тот, кто играл раньше, вышел весь взмокший. Его облепили нервные молодые люди и стали засыпать завистливыми от страха вопросами. Не знаю почему, я решил остаться и принял вид причастности к этому конвейеру исполнителей. Никто из присутствующих не возражал. По мере того как подходила моя очередь, мне прояснилась суть происходящего. Я понял, что попал на вступительные экзамены.
Я смутно представлял себе, что буду делать и говорить, если меня спросят, по какому праву я ввалился. Но очень хотелось сесть за рояль. Такой возможности могло долго не повториться. Я решил, что, независимо от дальнейших событий, успею поиграть на настроенном профессиональном инструменте. Я приготовился подскочить к роялю, быстро поиграть, извиниться и уйти.
Свои музыкальные силы я оценивал трезво. Я не касался клавиш с момента нашего отъезда из интерната, то есть почти два месяца. О хорошей беглости нечего было и говорить. Вдобавок ко всему я не знал ни одного музыкального произведения в оригинале – всё подбиралось по слуху и, наверное, с некоторыми отступлениями от нотного текста подлинника. В импровизациях собственного сочинения я почему-то засомневался. Я остановил свой выбор на произведениях, которые играл до меня один парень. Мне показалось, что я запомнил их до единой нотки, а какую-то пьеску я неоднократно слышал по радио.
Наконец дверь открылась и мне разрешили войти. Я проследовал в угловатую комнатку с занавесом вместо боковой стены. Через высокий, будто юбочный разрез занавеса просматривалась сцена с роялем.
Зал был почти пуст. Стояли два сдвинутых стола, за ними сидели человек шесть комиссии. Над их головами нависал балкон, я глянул на него и похолодел – там было полно народу. Я вышел, как из плюшевого чума, и каким-то мятным от волнения голосом выговорил: «Абитуриент Глостер», – и резво проковылял к роялю.
Чтобы опередить все уместные вопросы, я начал играть. Сразу же появилось первое неудобство. Строй старенького интернатского пианино разительно отличался от строя концертного рояля. В моей памяти за определённой клавишей хранился соответствующий звук. Здесь клавиши и прячущиеся за ними звуки не совпадали. В итоге получалось не совсем то, что я намеревался представить. Я растерялся, но, не прекращая игры, съехал на импровизацию и кое-как на одном крыле дотянул до аэродрома. Меня не прервали.
На второй вещи я вполне освоился с клавиатурой. Я разогнался мелодией до такой скорости, что она не стала контролироваться спиной. Как слепой, я вскинул голову. Зрение ушло из глаз, но наладился умственный контакт с воображаемым музыкантом из горба. Он подхватил мелодию, повёл за руки, и залежи моей грустной жизни брызнули новыми звуками, потекли через пальцы на клавиши спинномозговой сонатой.
Я остановился, промокнул о штанины ладони. На балконе раздалось несколько хлопков.
Женщина, сидящая в комиссии, сказала:
– Я не нашла вашей фамилии в списках.
В сущности, этим должно было кончиться. Я встал, мой скрюченный контур, очевидно, приняли за поклон, и на балконе снова зааплодировали. Я предпочел поскорее уйти, потому что и так удовлетворился.
Женщина крикнула мне вслед:
– Наверное, какая-то ошибка!
«Никакой ошибки», – полувслух, полумысленно ответил я, прибавил ходу и выскочил за дверь. К счастью, никто не выяснял у меня, как прошло выступление; провожаемый любопытными взглядами, я заспешил по коридору.
Я хорошо помнил обратную дорогу и уже почти улизнул, но на выходе меня окликнул властный мужской голос:
– Глостер, подождите!
Я оглянулся. По центральной лестнице тяжёлым галопом спускался крупный мужчина лет пятидесяти – один из тех, кто сидел за столом в зале.
Он подошёл ко мне и первым делом сердито выпалил:
– Что я, мальчик – за вами бегать?! – Глаза его под очками сверкнули колючими искрами. В этот момент он окончательно разглядел меня и сказал на тон мягче: – Ну, чего вы испугались? Вы неплохо играли и понравились комиссии. Вам задали обычный канцелярский вопрос, это совсем не значит, что надо срывать экзамен.
Я промолчал, привычно чувствуя, как ползёт по моей круглой спине его жалостливый и удивлённый взгляд.
– Что-то случилось? – спросил мой преследователь. – Вы передумали поступать? Нет? Тогда в чём дело?
– А какие документы нужны, чтобы поступить к вам? – спросил я.
У моего собеседника не только брови, но даже щеки изобразили глубокое удивление:
– Вы не подавали документов?
– Нет, – удручённо признался я.
– Очень хорошо, – он снял на минуту очки и оглядел меня уже босыми и, наверное, поэтому беспомощными глазами. – Тогда зачем вы к нам пожаловали?
– Я только хотел поиграть на рояле, – выложил я свою аляповатую правду.
– Где вы раньше занимались?
– Нигде.
– Тогда с кем? Я имею в виду, у кого вы учились?
– Ни у кого. Я сам научился.
– Изумительно, – мужчина деловито потёр ладони. – Следующий вопрос: что вы играли? Шопена – не Шопена, Рахманинова – не Рахманинова.
– Не знаю, – поскольку действительно не представлял, что изобразил.
– Как же вы тогда играли?
– Передо мной ребята кучу вещей исполняли. Что-то запомнил, что-то придумал.
Мы продолжили разговор на улице. Мужчина сказал, что его зовут Валентин Валерьевич. Он размашисто разжёг сигарету, затем посмотрел на часы и отмахнулся от них:
– В двух словах – откуда вы приехали, в общем, коротко биографию.
Я рассказал про интернат, без бытовых подробностей – в основном про старенькое пианино в каморке папы Игната. Чуть-чуть о нашем переезде в город. Я не скрыл подозрений общества о моей нормальности и с тем большей гордостью заверил, что не псих. Валентин Валерьевич сразу успокоил меня, что никогда бы так не подумал.
– А почему вы не подготовили какое-нибудь произведение конкретно? – вдруг спросил он.
– Потому что ничего конкретного я не разучивал, а играю только то, что когда-нибудь слышал и запомнил.
– По слуху?
– Да, а как ещё можно…
– Без нот? – как бы уточняя нечто абсурдное, спросил Валентин Валерьевич.
Увы, я не знал нотной грамоты. Названия «до», «ре», «ми», «фа» были мне знакомы, но существовали без смыслового наполнения.
Валентин Валерьевич за секунду принял какое-то решение и сказал:
– Вот что, Глостер, приходите через два дня прямо сюда, когда закончатся экзамены, – он протянул мне картонный прямоугольник. На нём я увидел крупные позолоченные строчки «Валентин Валерьевич» и «Декан». – Здесь мой рабочий телефон, звоните, когда вздумается. Сегодня у нас что? Среда. Значит, в пятницу в десять утра я жду вас в своём кабинете. Спросите у вахтёрши, как пройти. Договорились? Уверен, мы что-нибудь для вас сообразим. Кстати, – он достал из кармана блокнот, – как вас по батюшке?
У меня и Бахатова имелись одинаковые, чисто формальные отчества: мы оба были Игнатовичи. Остроумный Игнат Борисович, следуя традиции римских патрициев, дал нам как вольноотпущенникам своё имя.
– Очень хорошо, Александр Игнатович, так и запишем, – сказал Валентин Валерьевич и впервые за нашу беседу позволил себе улыбнуться. – До встречи.
Я сказал «спасибо» четыре раза и побежал искать универмаг. Дома я поделился впечатлениями с Бахатовым. Тот покивал и погрузился на дно своих мыслей. Бахатов умел быть иногда удивительно холодным. Впрочем, он готовился к завтрашнему дню и медитировал над ногтями. Я оставил его в покое и улёгся перед телевизором тешить свою радость изнутри. Бахатов сидел прямой, как факир, и глаза его излучали змеиную мудрость.
– В пятницу всё будет хорошо, – неожиданно сказал он и улыбнулся родительской улыбкой. Тогда мне показалось ошибочным моё представление, что это я присматриваю за Бахатовым.
15Так и случилось. Валентин Валерьевич приветливо встретил меня утром, спросил о самочувствии и как я провёл время, а сам тем временем поставил на стол магнитофон.
– Вот, послушай, – он нажал кнопку, и заиграл быстрый рояль. Произведение закончилось, Валентин Валерьевич хитро посмотрел на меня и спросил: – Сможешь повторить?
Мы прошли в кабинет, где стоял инструмент. Валентин Валерьевич снова прокрутил запись, но мне хватило бы одного прослушивания. Я сел за рояль и начал играть.
– Фантазируешь! – крикнул Валентин Валерьевич. Я исправился, хотя мой вариант мне нравился больше.
– А теперь верно!
Я доиграл, Валентин Валерьевич выглядел очень довольным.
– Ну что, поехали дальше, – сказал он.
Вторую вещицу я исполнил с минимальными авторскими отступлениями, и Валентин Валерьевич похвалил меня. В общей сложности мы прослушали пять композиций.
– До понедельника отрепетируешь, – сказал Валентин Валерьевич. – Магнитофон, если хочешь, возьми с собой или оставь здесь. Ключ я тебе даю, приходи и работай.
И начались замечательные дни. Я наслаждался по десять часов кряду. К необходимому понедельнику я наловчился так, что мог играть заданные произведения наизнанку.
В понедельник меня слушали, кроме Валентина Валерьевича, внимательный человек из городского отдела народного образования и директор специализированной музыкальной школы-десятилетки, приятель Валентина Валерьевича. Я отыграл программу, меня поблагодарили и в коридор не отправили. Я почувствовал, что это добрый знак, раз моя дальнейшая судьба обсуждается в моём же присутствии.
Вначале высказался Валентин Валерьевич, потом директор школы. Они говорили обо мне только хорошие слова. Человек из отдела образования заявил, что не видит никаких препятствий тому, чтобы я учился музыке, и пообещал подписать соответствующий указ и всё уладить. Валентин Валерьевич поздравил меня, а директор сказал, что я теперь учащийся девятого класса специализированной школы-интерната для музыкально одарённых детей.
Всё сложилось без моего участия. Документы из канцелярии ПТУ переслали в канцелярию школы, мне выделили койку в общежитии. До осени ребята разъехались по домам, и я жил в комнате один. Кто-то из преподавателей школы согласился подтянуть меня за лето по теории. Сам я взял в библиотеке «Практическое руководство по музыкальной грамоте» Фридкина и, на всякий случай, вызубрил.
Единственной моей проблемой был Бахатов. Я просил у директора позволить Бахатову жить вместе со мной в общежитии музыкальной школы, но директор сказал, что это запрещено законом.
Я не представлял, как отреагирует Бахатов на разлуку, и осторожно сообщил ему, что нам придётся впервые за долгие годы ночевать порознь и видеться только днём. Бахатов в очередной раз поразил меня своим спокойствием и даже некоторым равнодушием. Сантехнический гуру Фёдор Иванович выхлопотал для него полноценное рабочее место в жэке, и, кроме этого, его временно прописали в незанятой дворницкой. У Бахатова появилось собственное жильё с крохотным санузлом и кухонькой.
16Жизнь налаживалась. Больше чем на сутки мы не разлучались. Я приезжал к нему в гости, он ко мне. Я рассказывал о своих музыкальных событиях, он посвящал меня в приоткрывшиеся ему тайны финских рукомойников. Мне почему-то сразу вспоминались сказки Андерсена или хрустальный и холодный скандинавский Север, а Бахатов представлялся пушкинским Финном, оперным волхвом.
Я довольно быстро освоил игру с листа. Это оказалось не труднее, чем чтение вслух. Когда звуки обрели графические оболочки, я смог проигрывать произведение без инструмента, внутри себя. Ноты походили на кнопки, приводящие в движение потаённые клавиши, и внутренние молоточки стучали по внутренним струнам. Со временем я пристрастился читать партитуры как романы. Такое чтение дарило свою особую, неслышимую прелесть, сравнимую разве с оглохшим торжеством обладателя плеера. Я напоминал себе такого счастливого владельца пары невидимых наушников.
Учёбы, собственно, у меня уже не было. Меня не терзали общими дисциплинами. Основное время я проводил за роялем, даже не успел толком познакомиться с моими одноклассниками. Сентябрь и половину октября я посещал занятия, а потом совершенно случайно попал на конкурс местного значения.
В первом туре я представил этюды Шопена. Сыграл недурно, чувствуя вдохновение из спины. Звенел каждый хрящик, пел каждый позвонок, звуки лились как слёзы. Мне очень долго хлопали. Растроганный приёмом, я удалился за кулисы. Вдруг послышались чугунные командорские шаги, чей-то громовой голос, румяный богатырский бас пророкотал:
– Да где же он, этот ваш новый Рихтер? Покажите же мне его!
Я увидел человека исполинского роста.
Он тоже заметил меня:
– Вот ты где, голубчик ты мой! – стремительно подошёл ко мне и порывисто обнял, потом на мгновение освободил, чтобы погрозить кулаком невидимому врагу. – Нет, не вымерла ещё Россия! – и опять заключил в объятия. В глазах его стояли настоящие слёзы. – Ну, здравствуй! – сказал он мне, как будто мы встретились после томительной разлуки. – Я – Тоболевский, Микула Антонович, – великан земно поклонился.
Я заметил, что мы сразу очутились в центре внимания. Тоболевский, казалось, сознательно эпатировал закулисную публику. Он буквально стягивал взгляды. В его манере не говорить, а мелодекламировать, громогласно и вычурно, не чувствовалось особой фальши. В фактуре Тоболевского удивительно сочетались добродушие и мощь ярмарочного медведя с духовным порывом помещика, отравленного демократической блажью. Сходство с добрым барином усиливала холёная, превосходной скорняжной выделки борода, чёрная, со змеистыми седыми прядями. На Тоболевском был фрак, но вместо фрачной рубахи он надел вышитую, русскую. Под горлом у него красовался атласный махаон с бриллиантовой булавкой. Тоболевский источал пряничную, с глазурью, энергию. Ей невозможно было не поддаться.